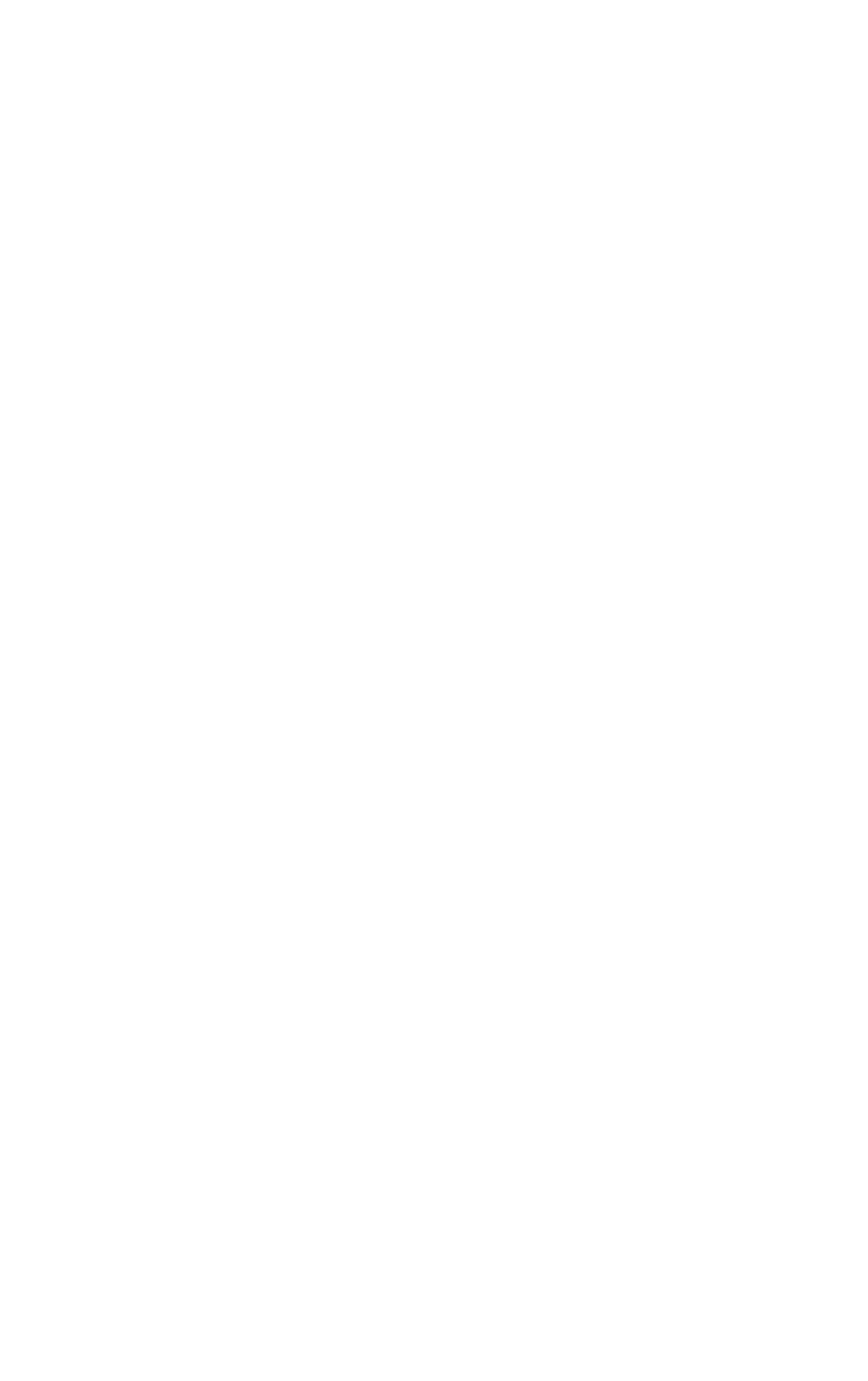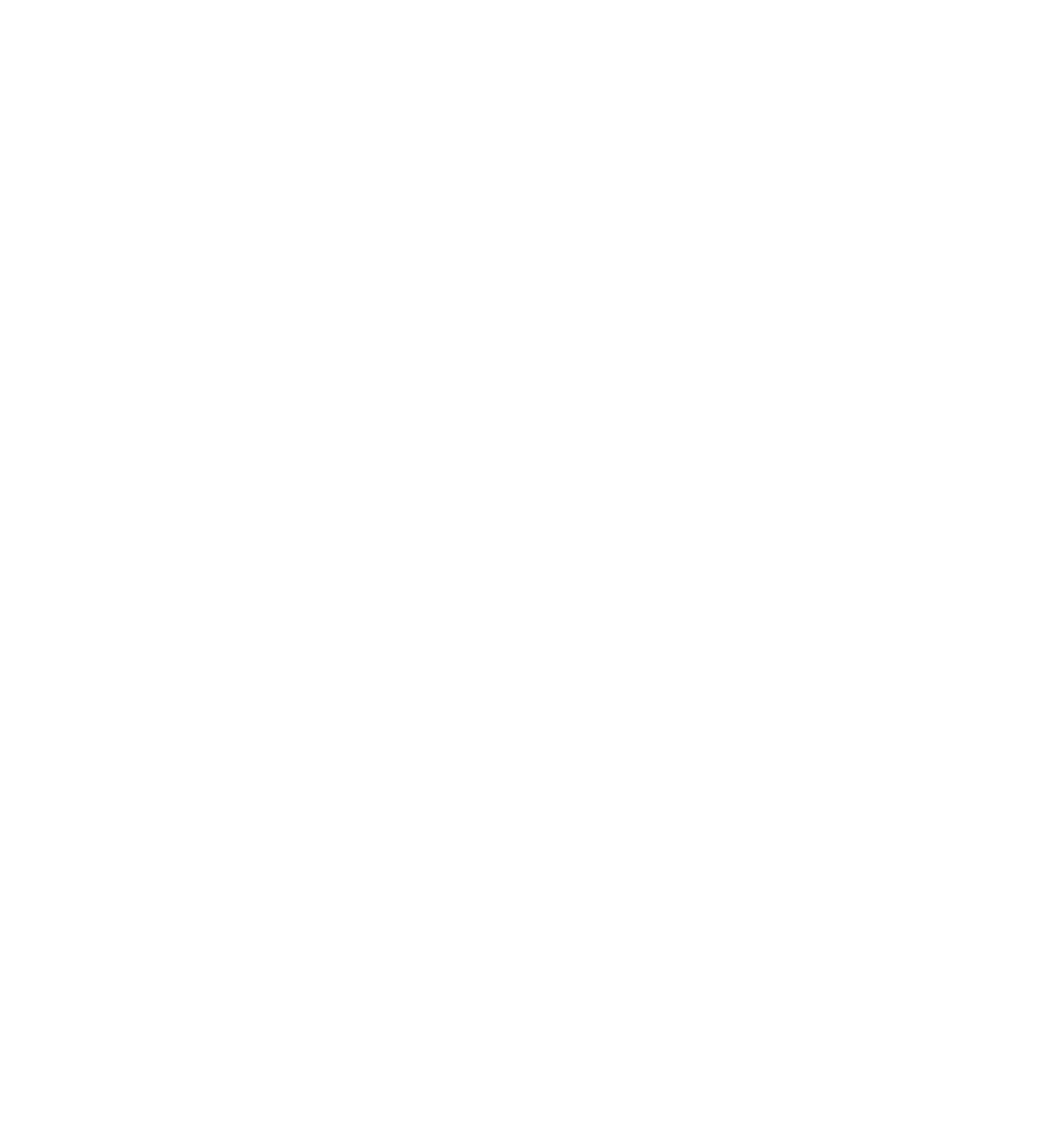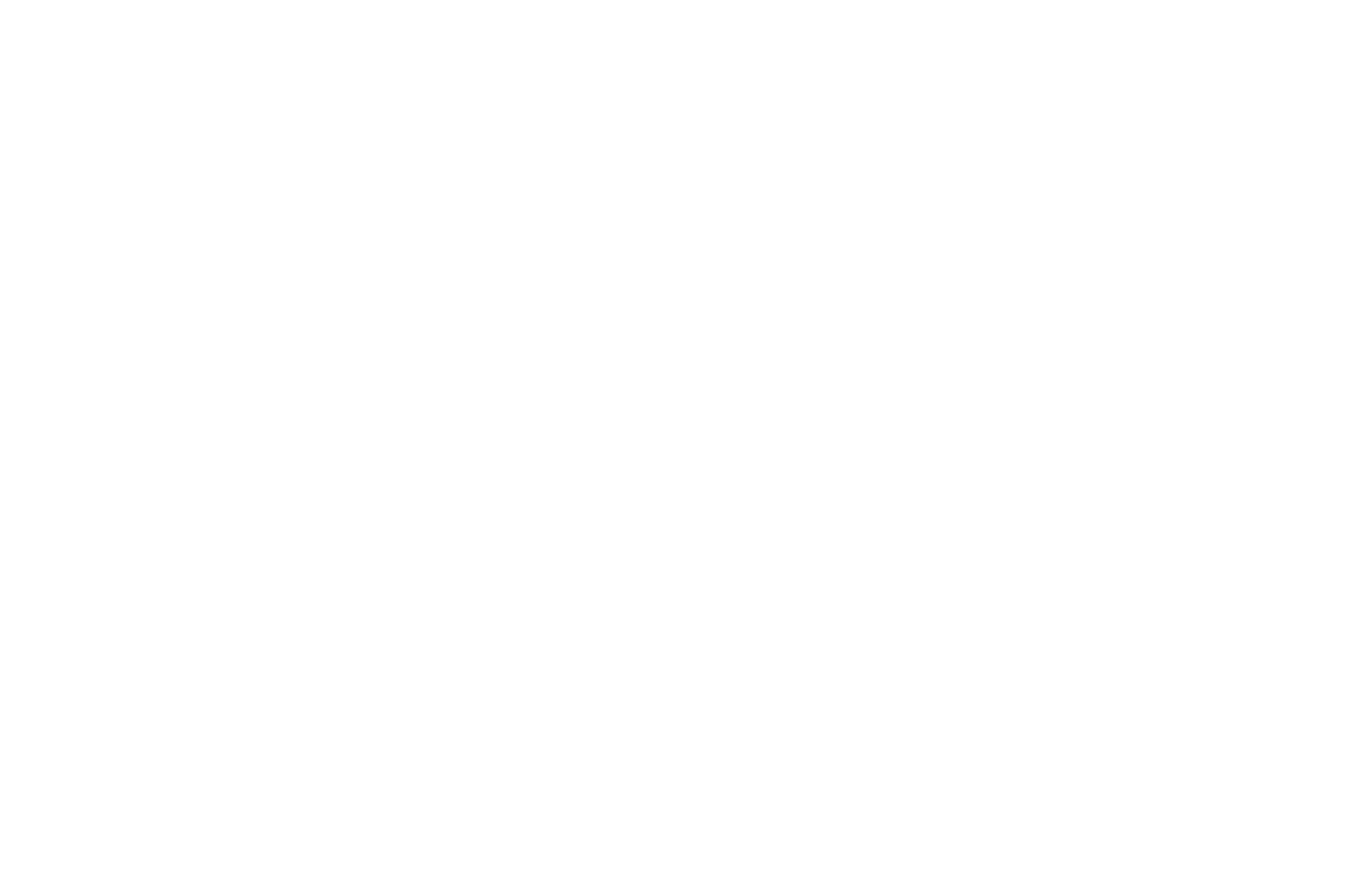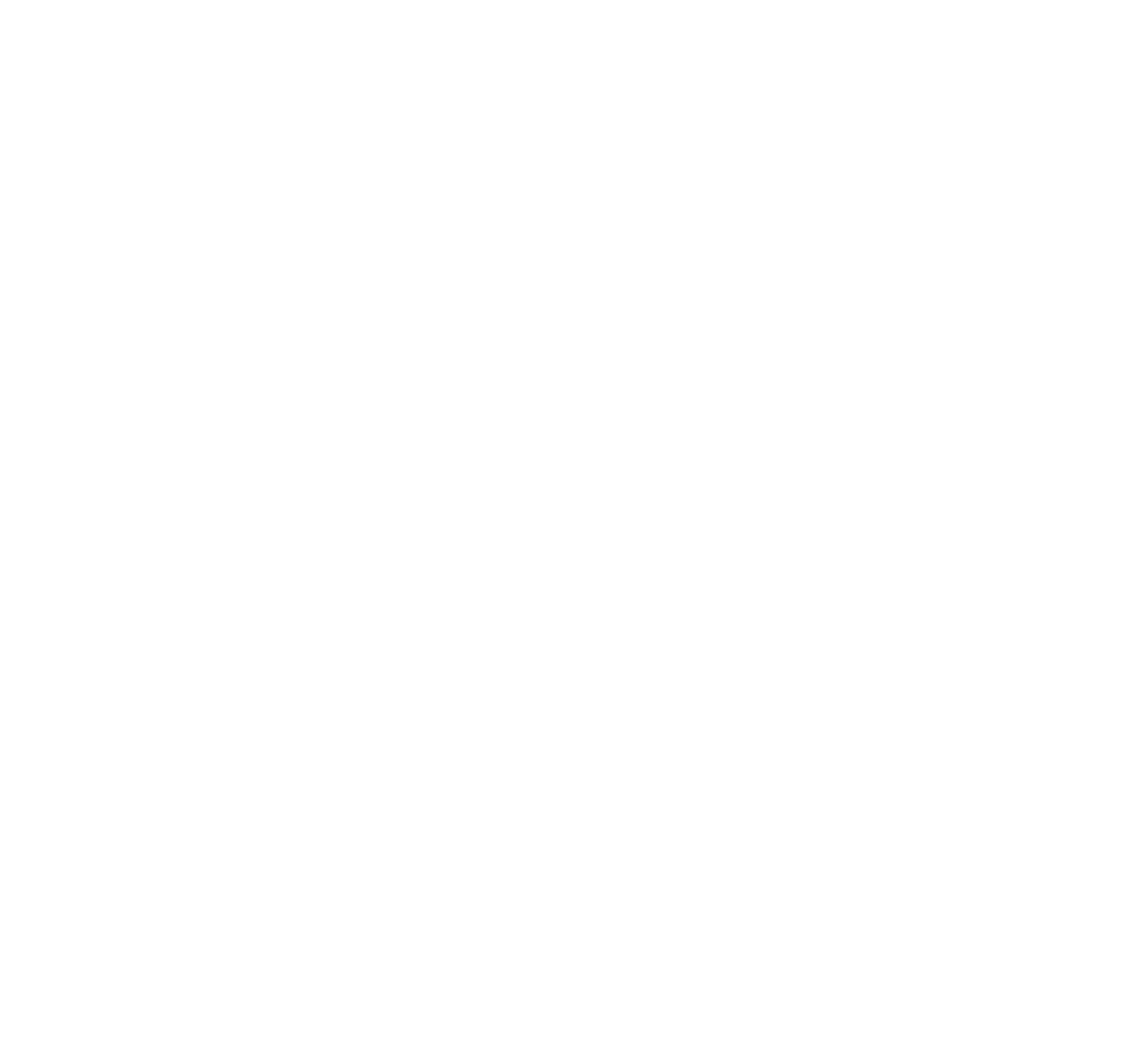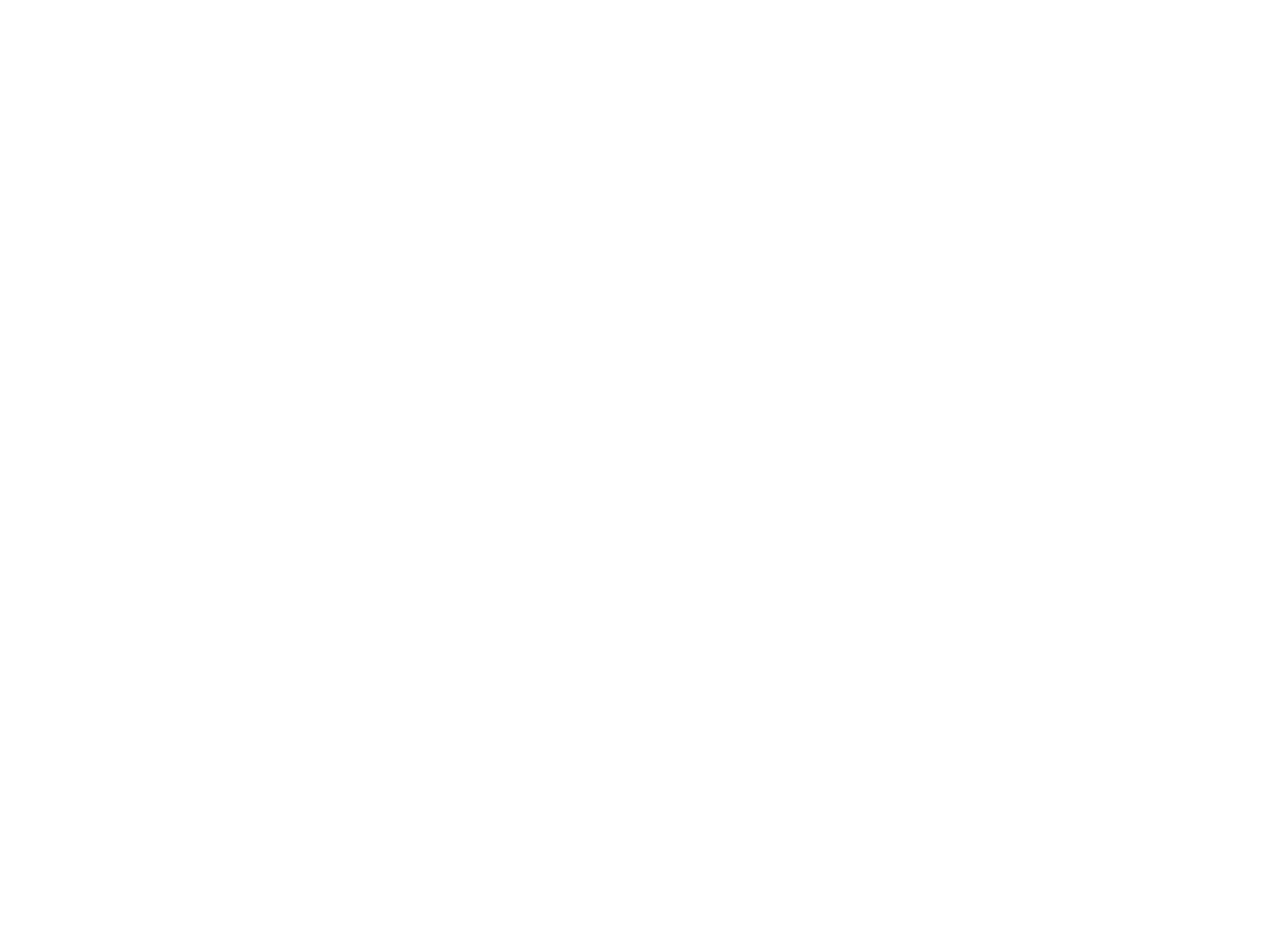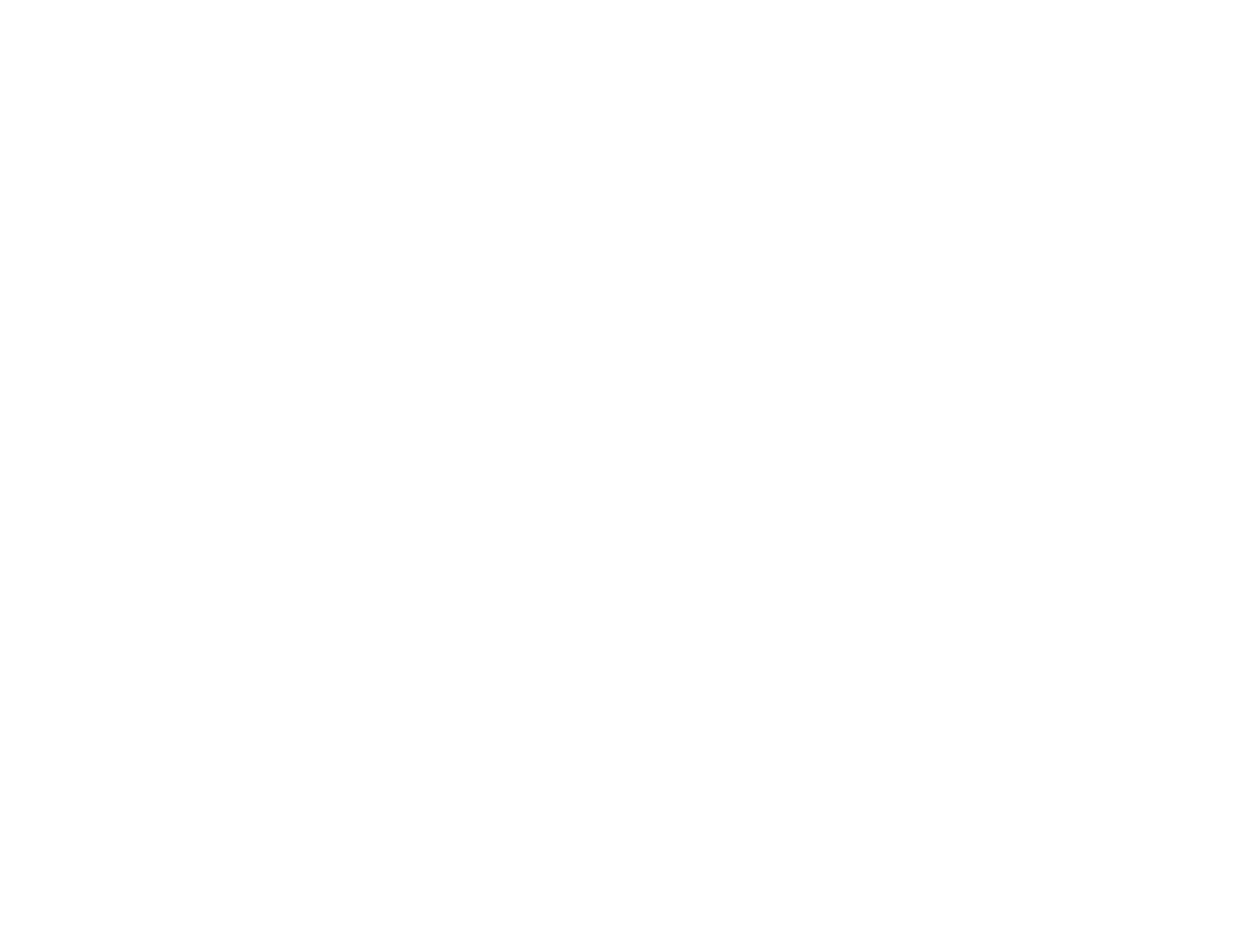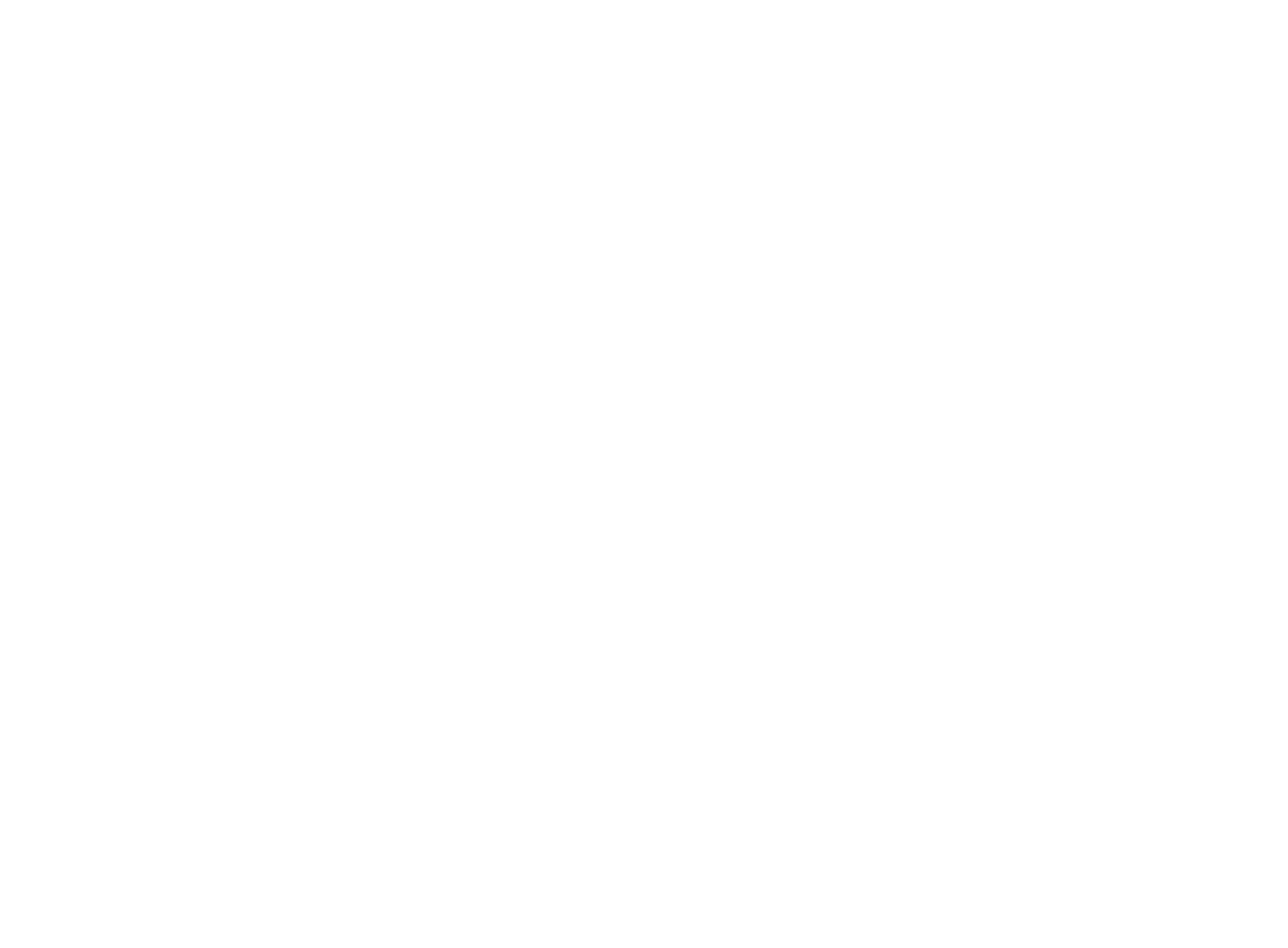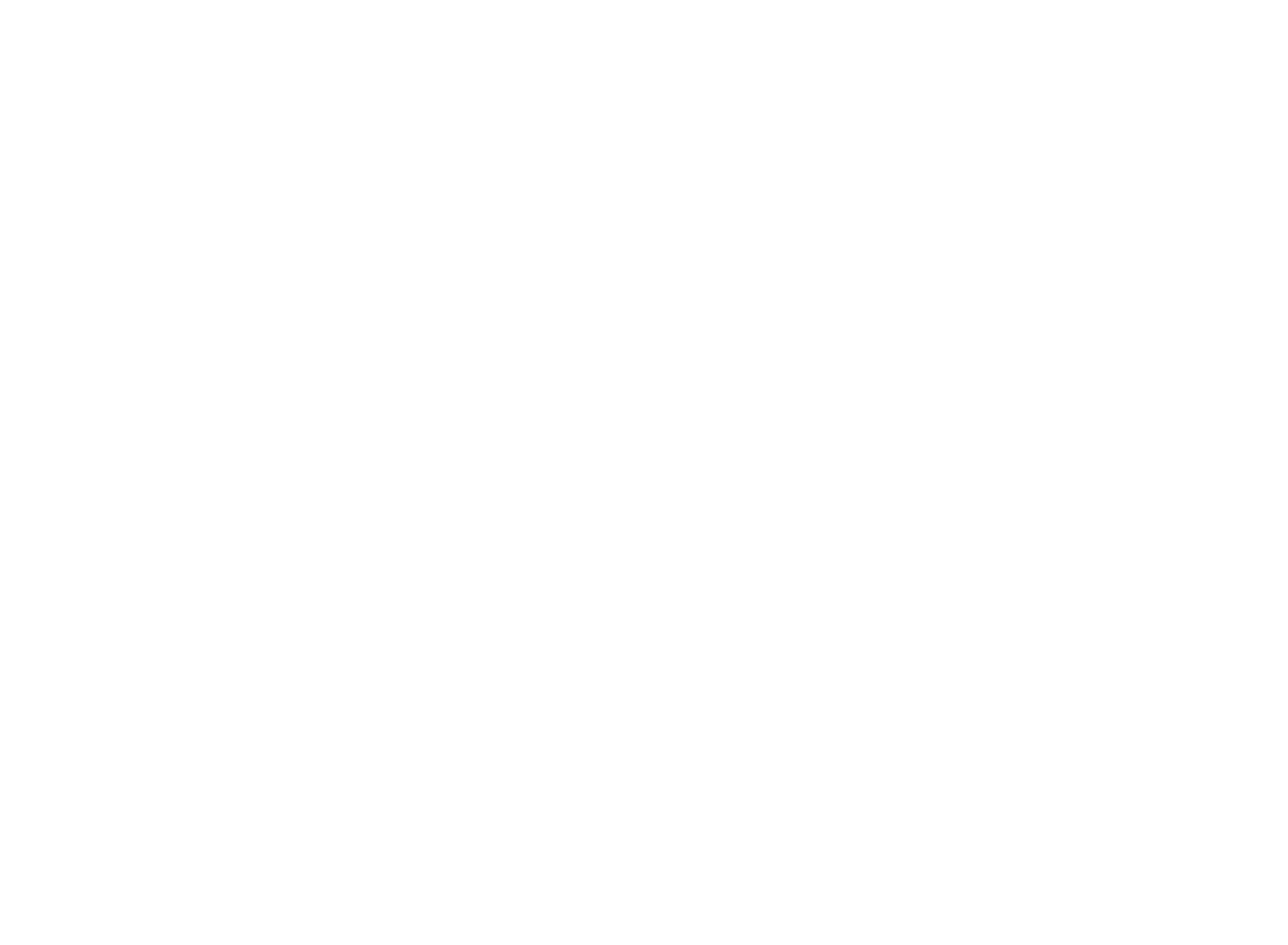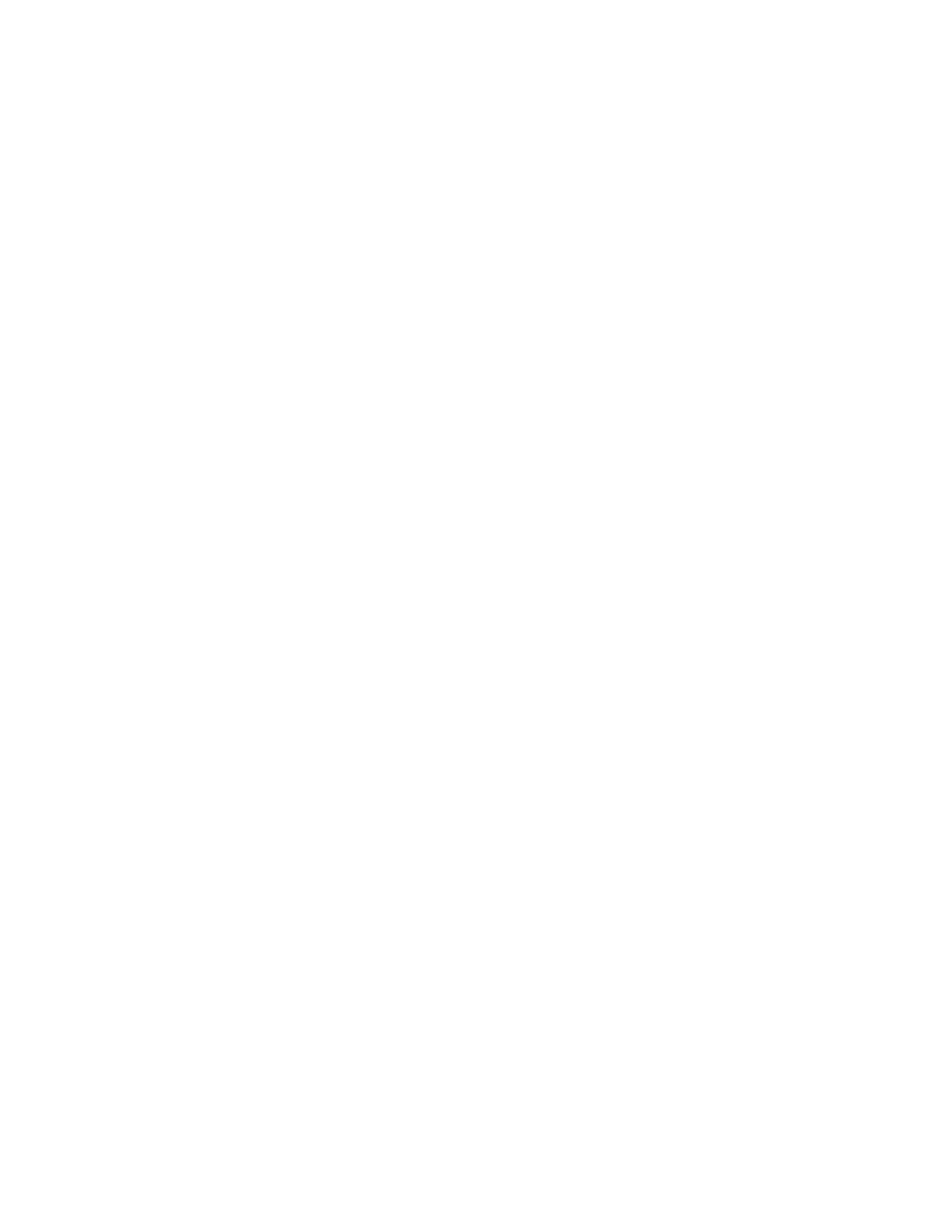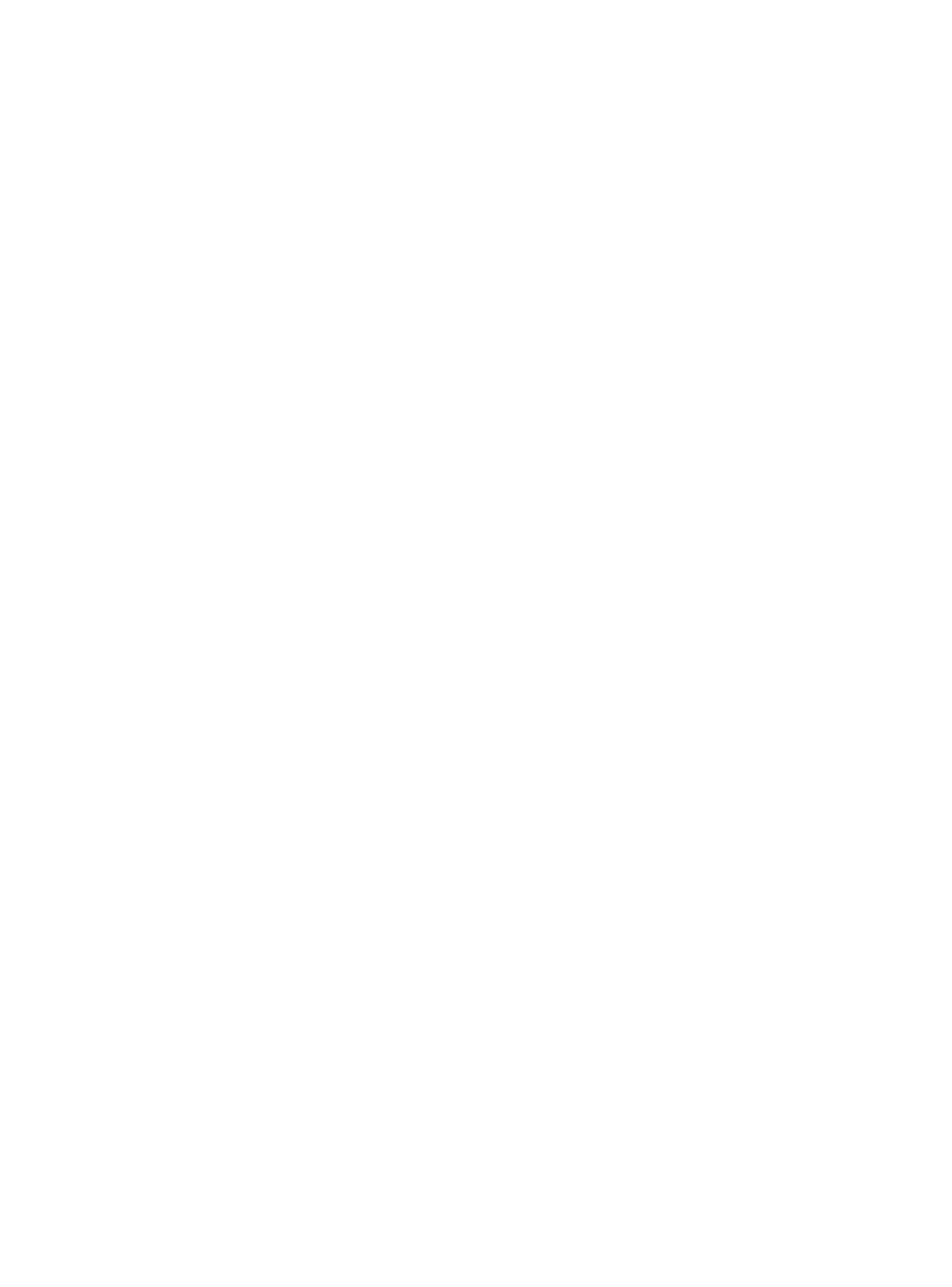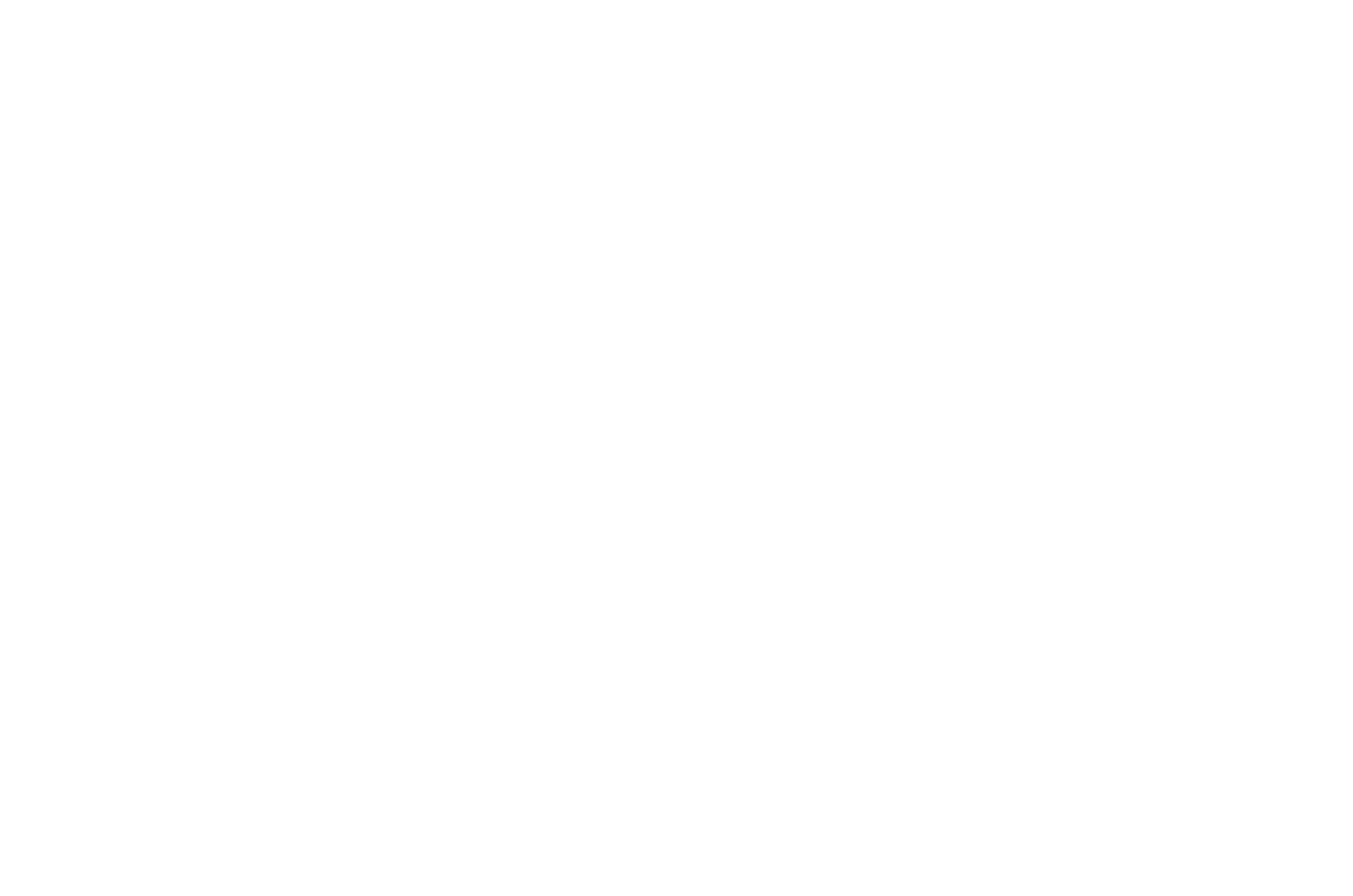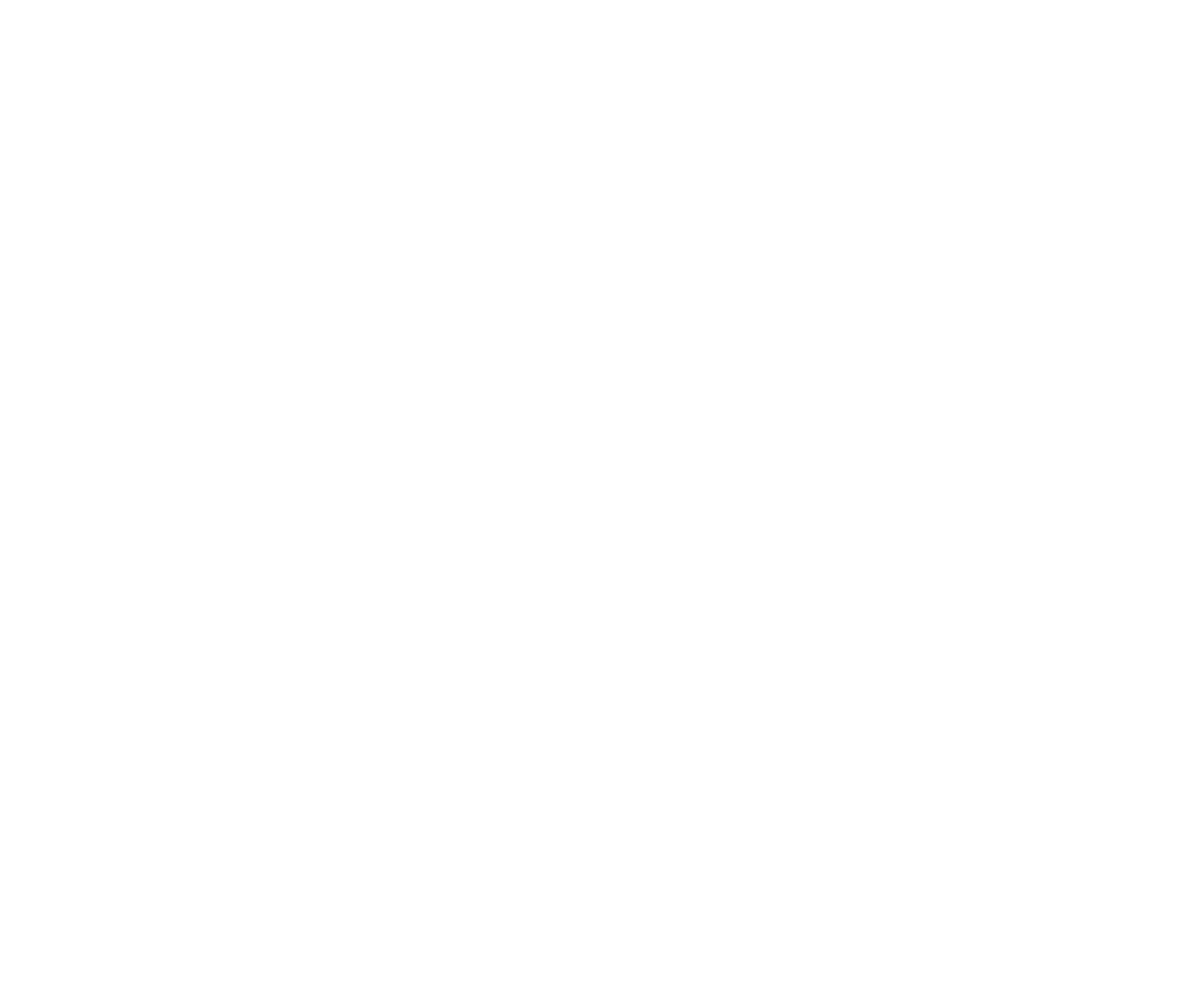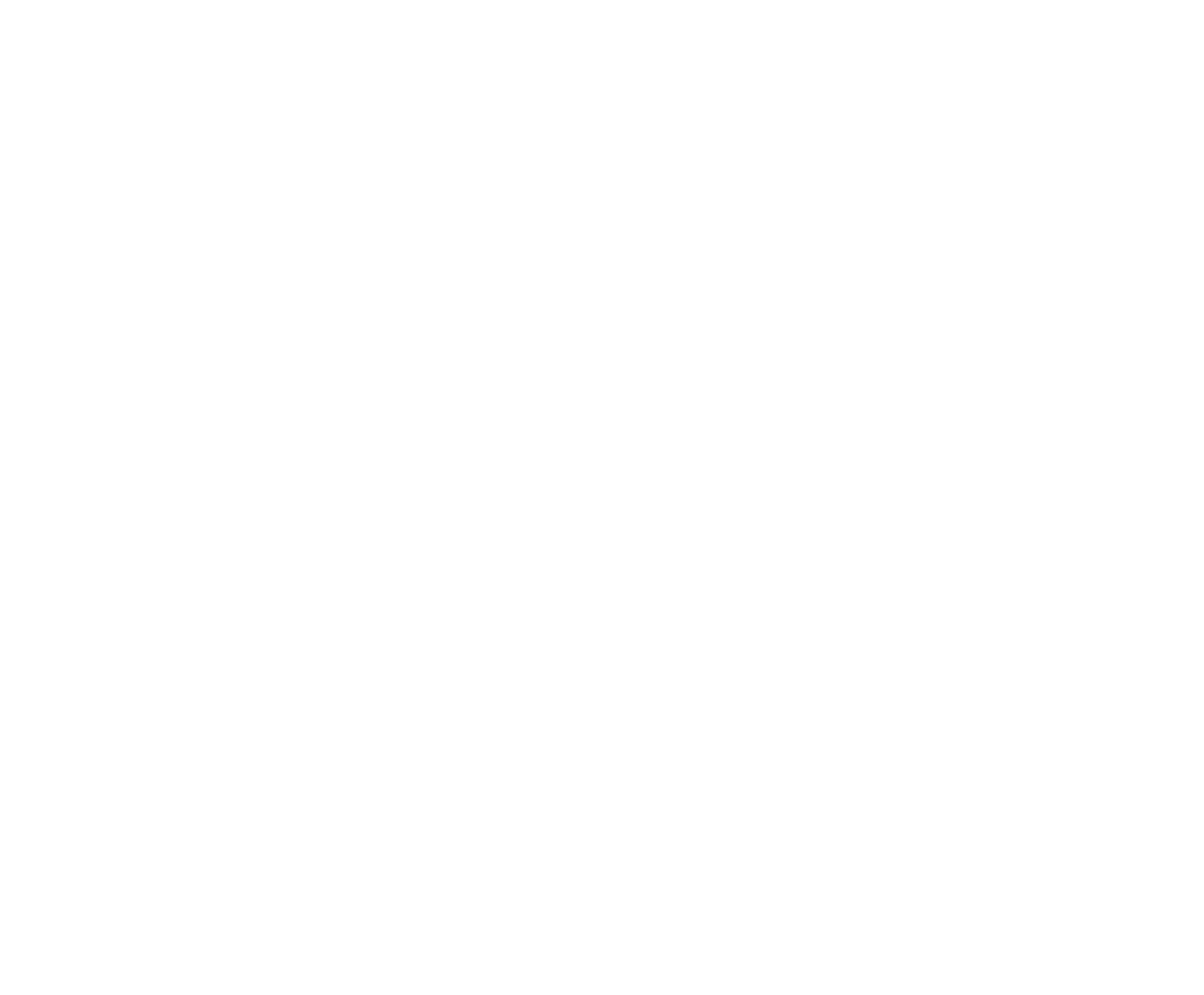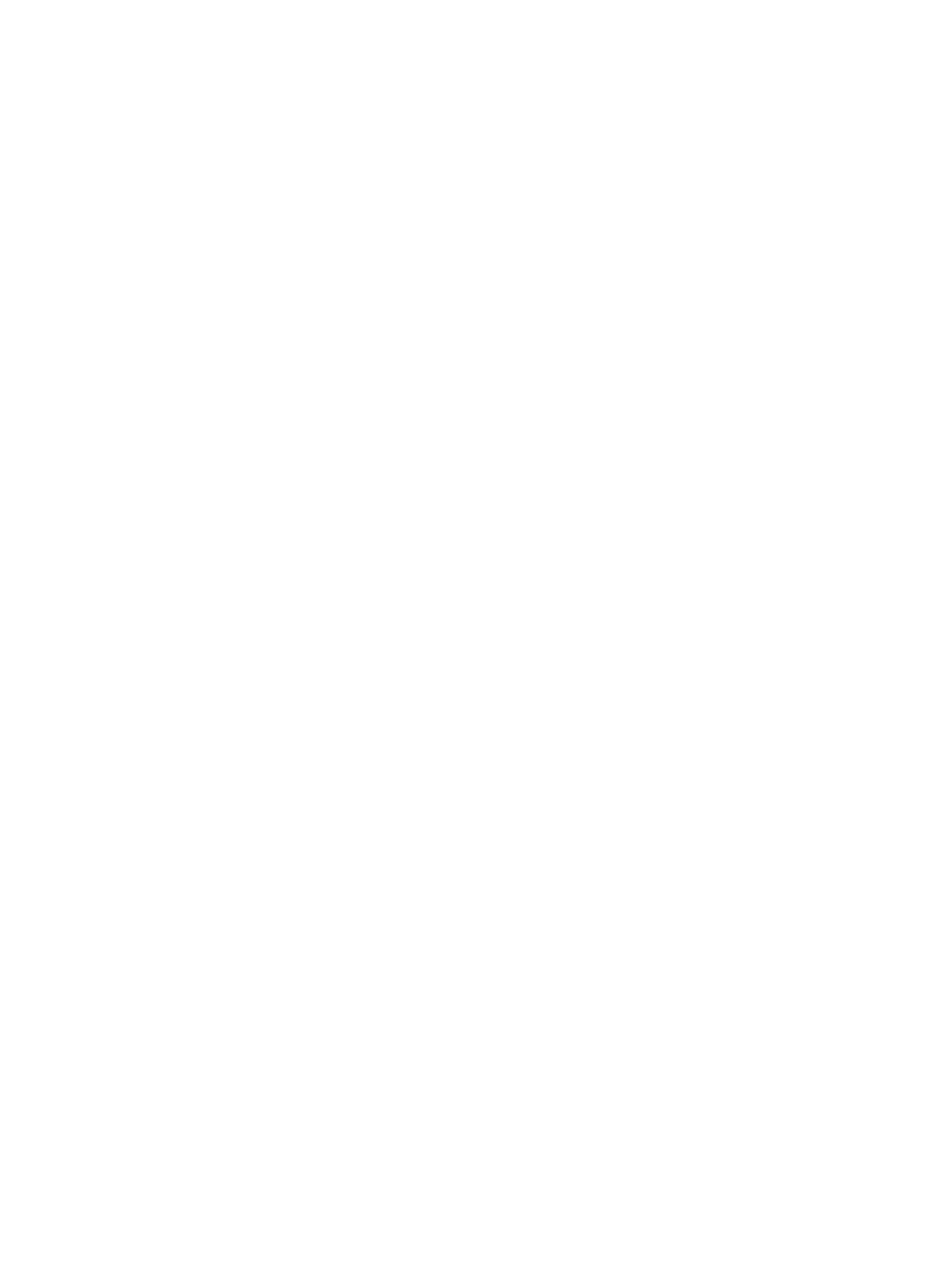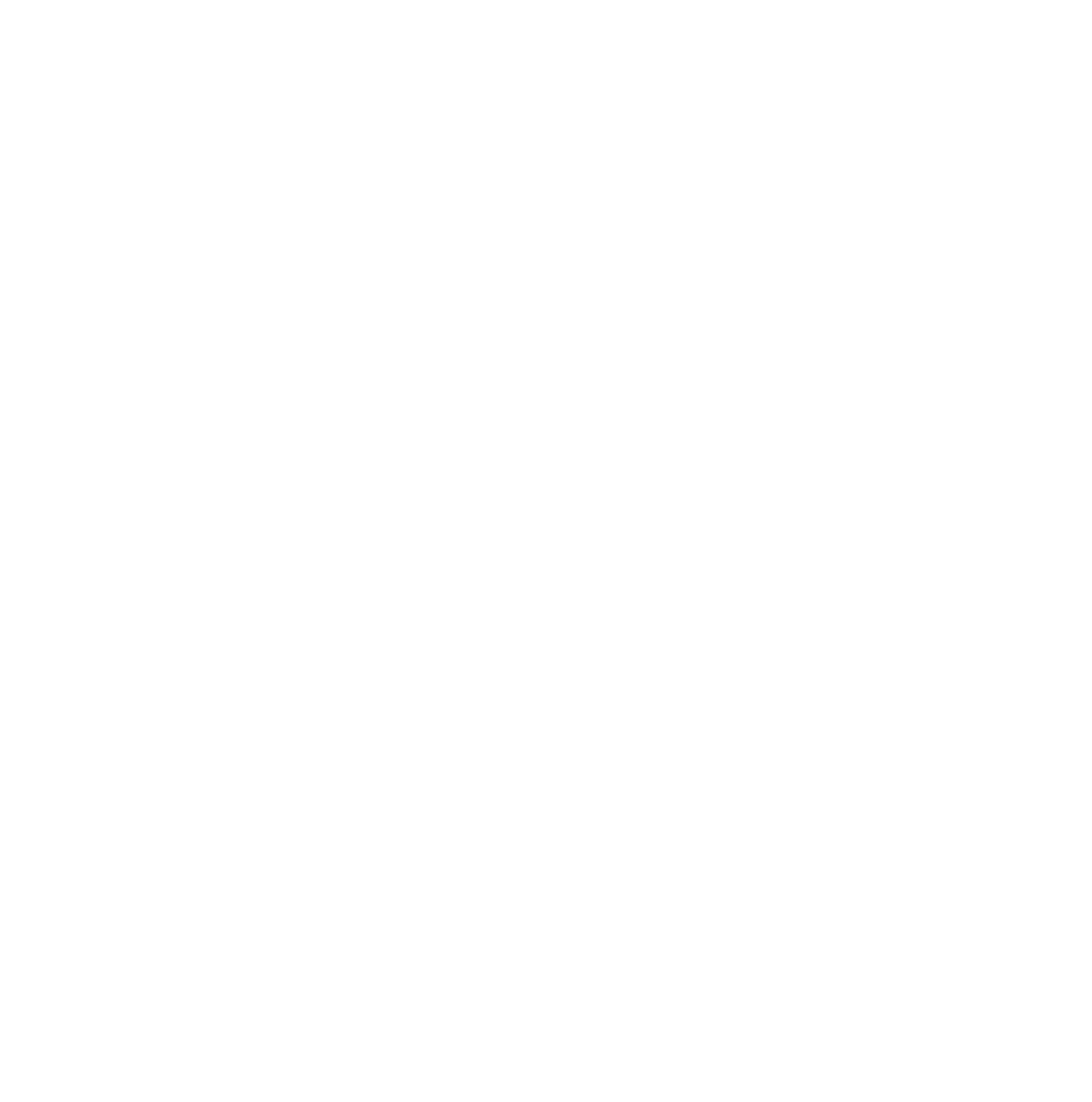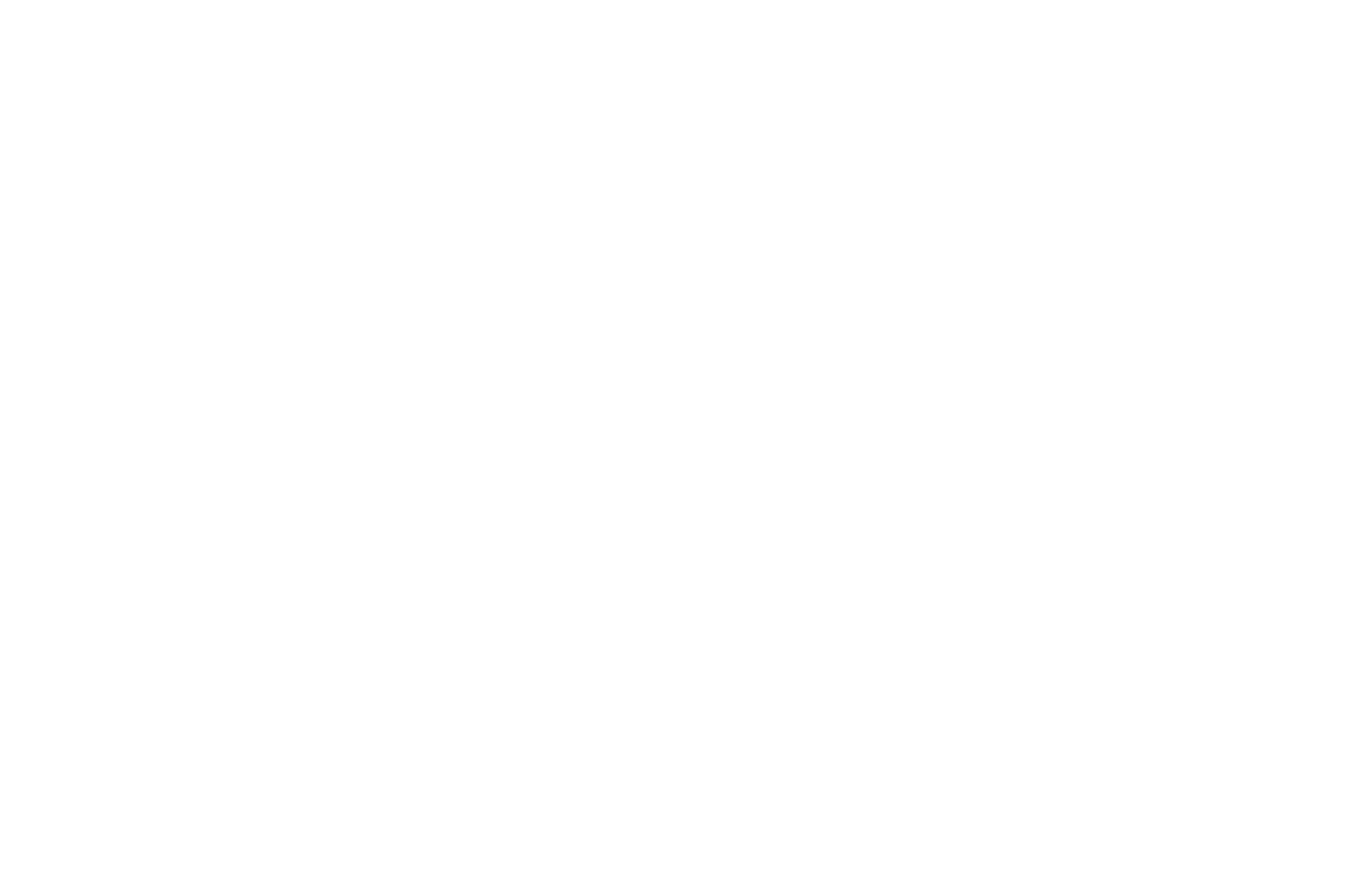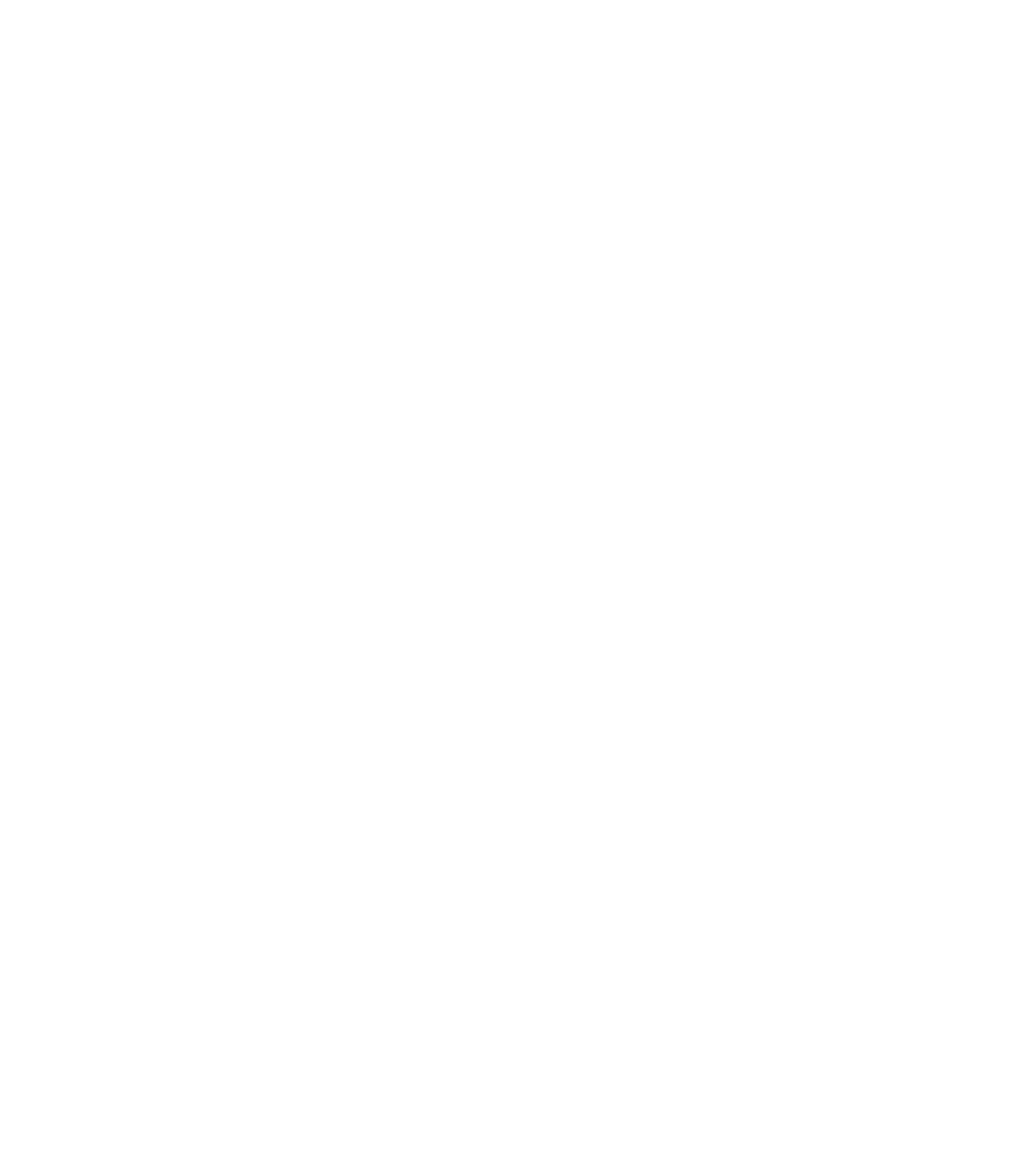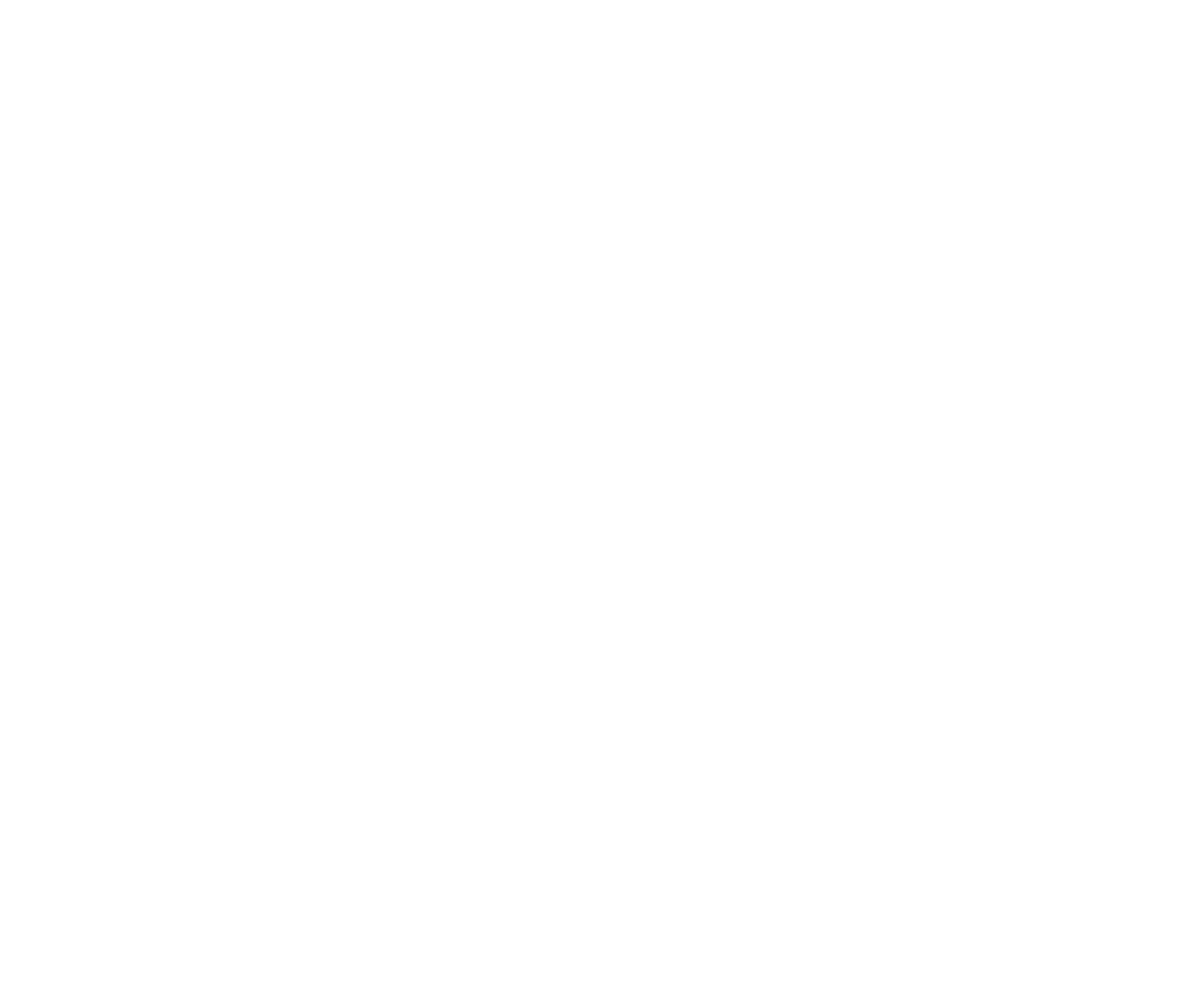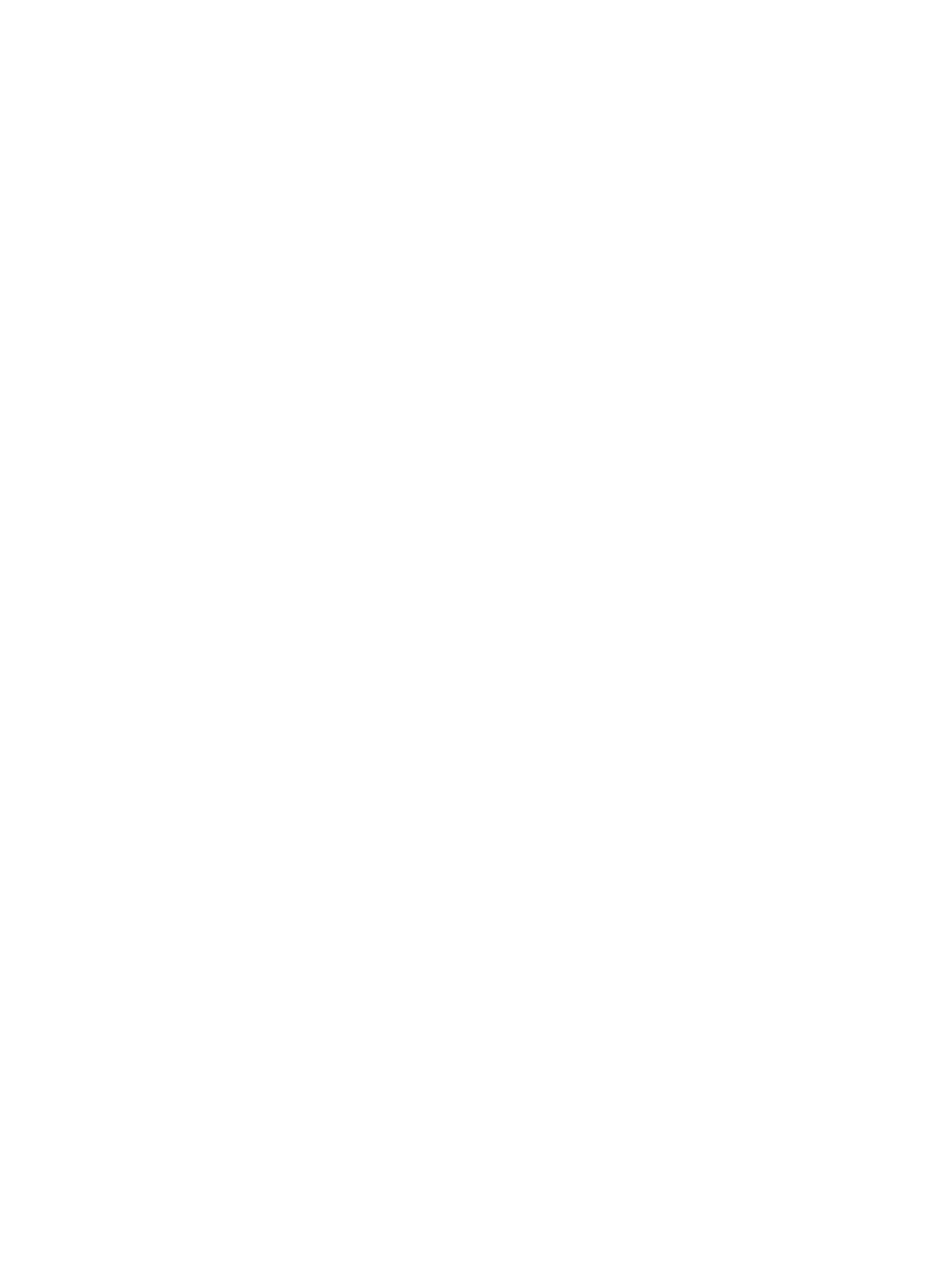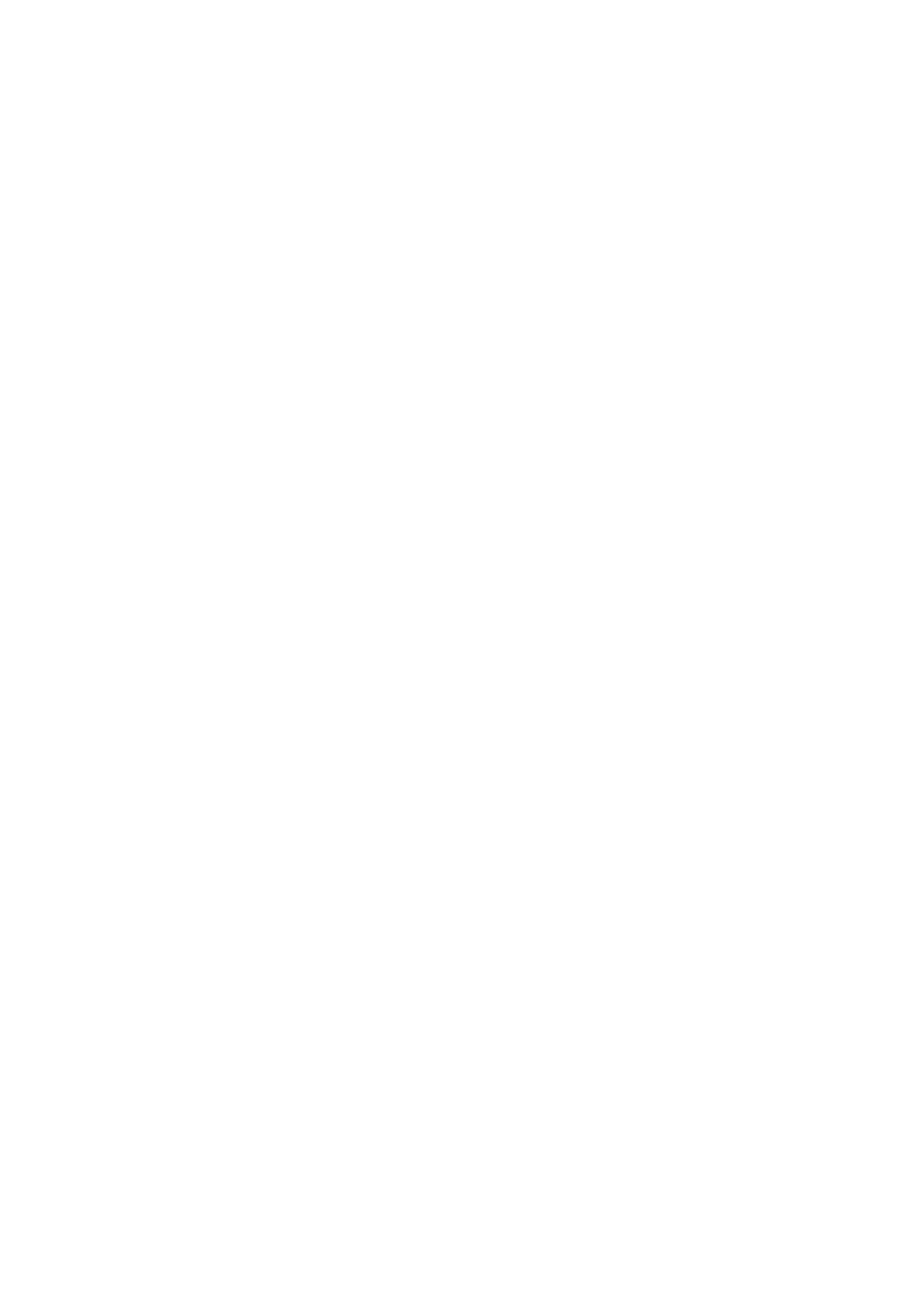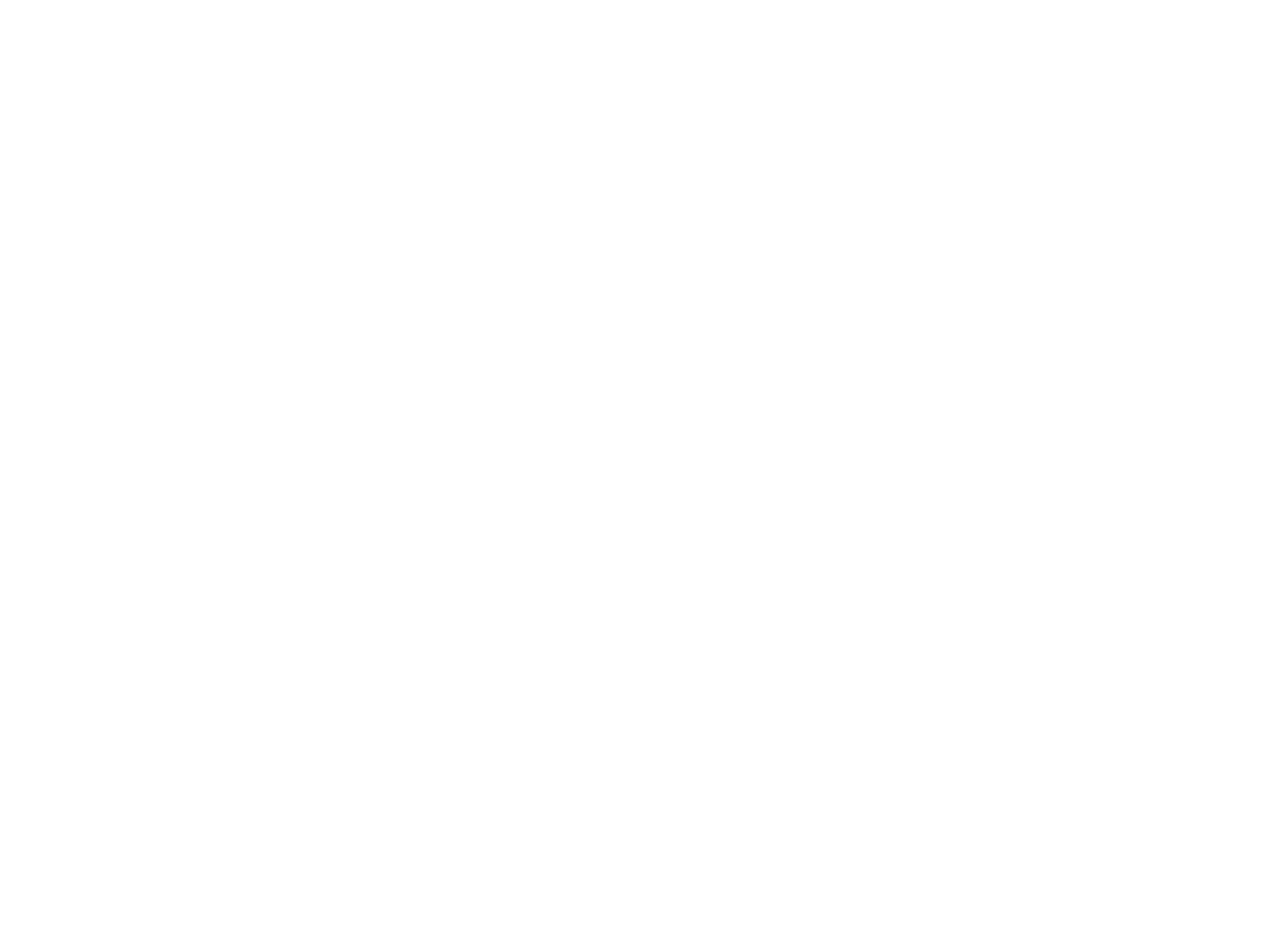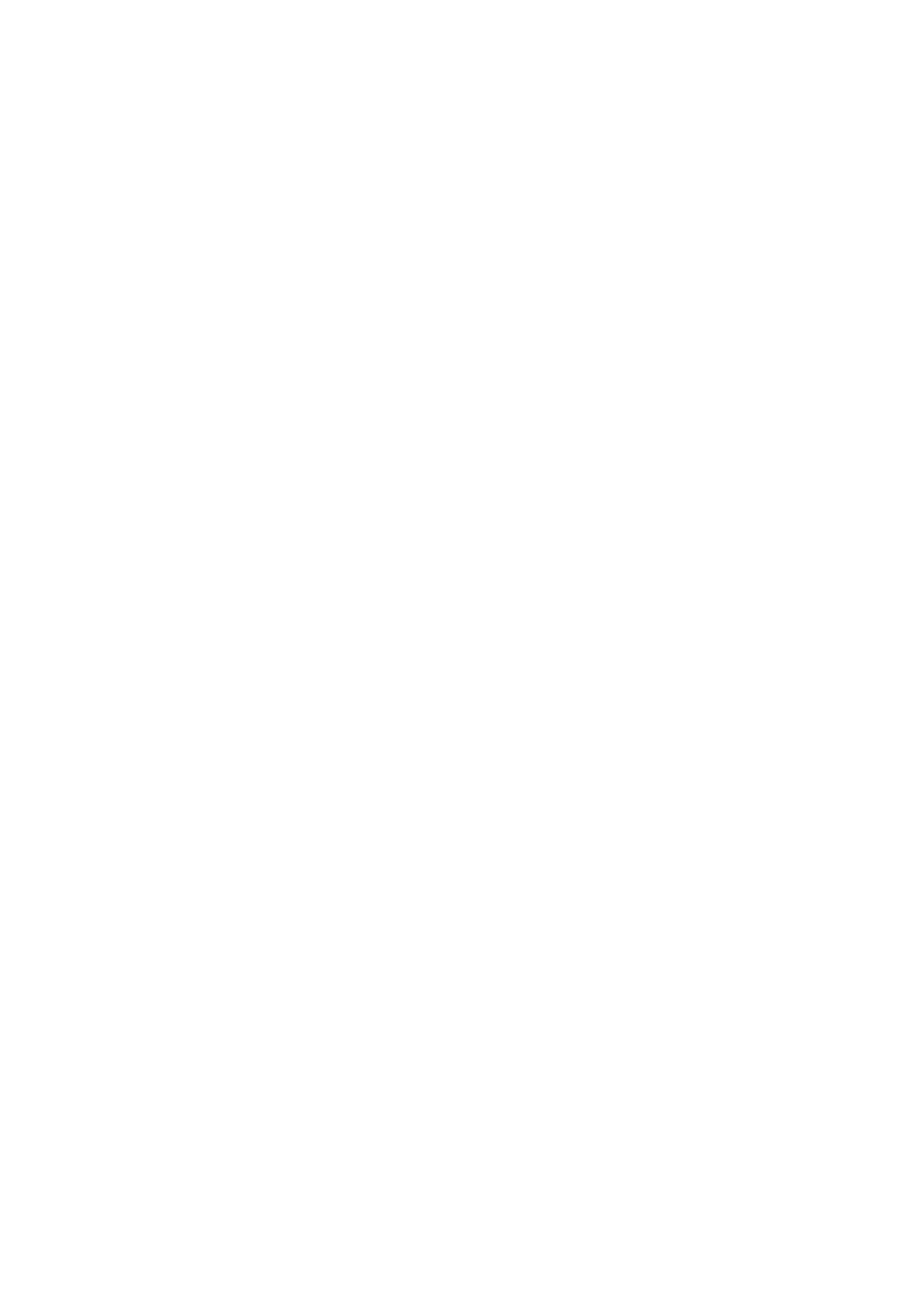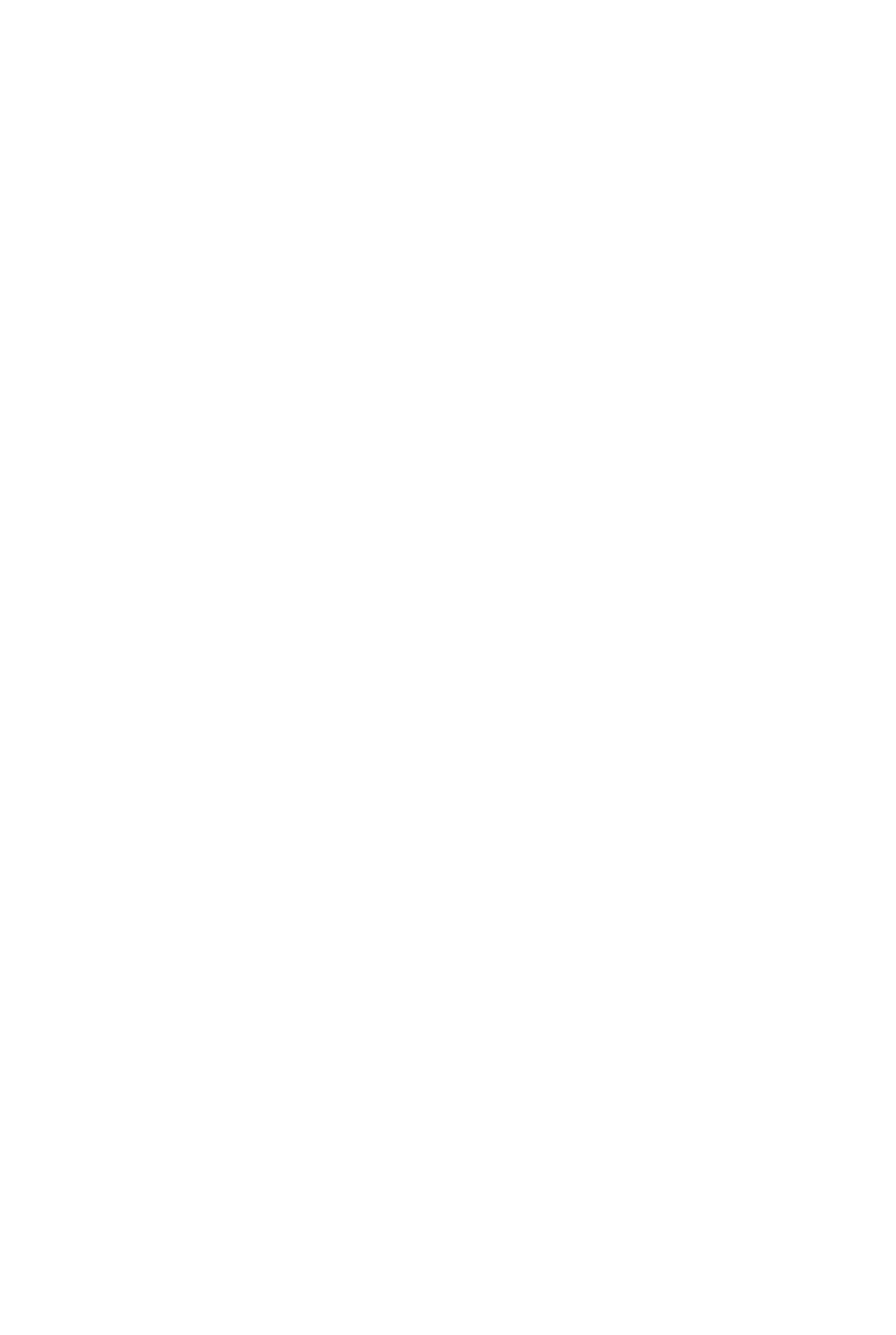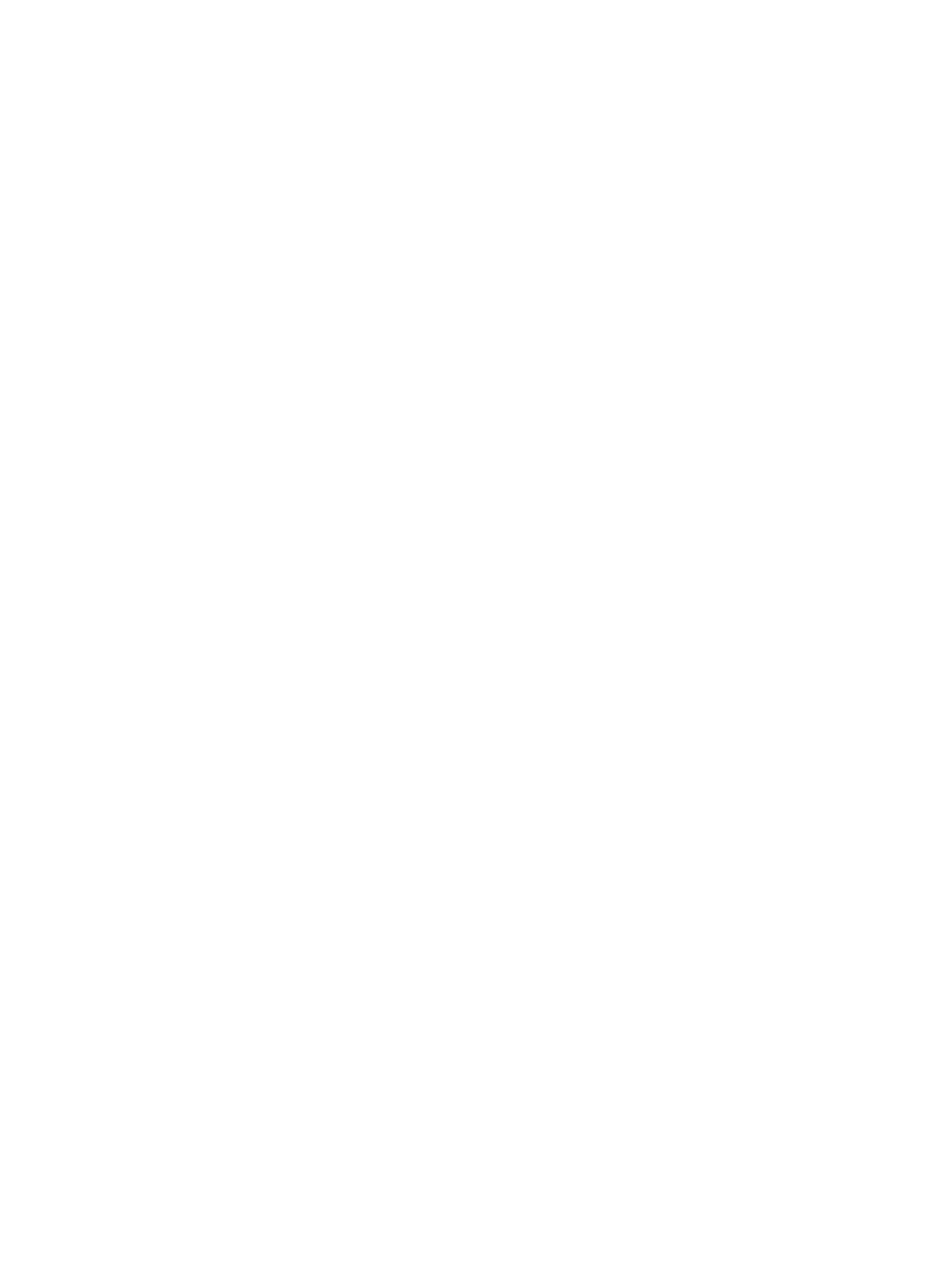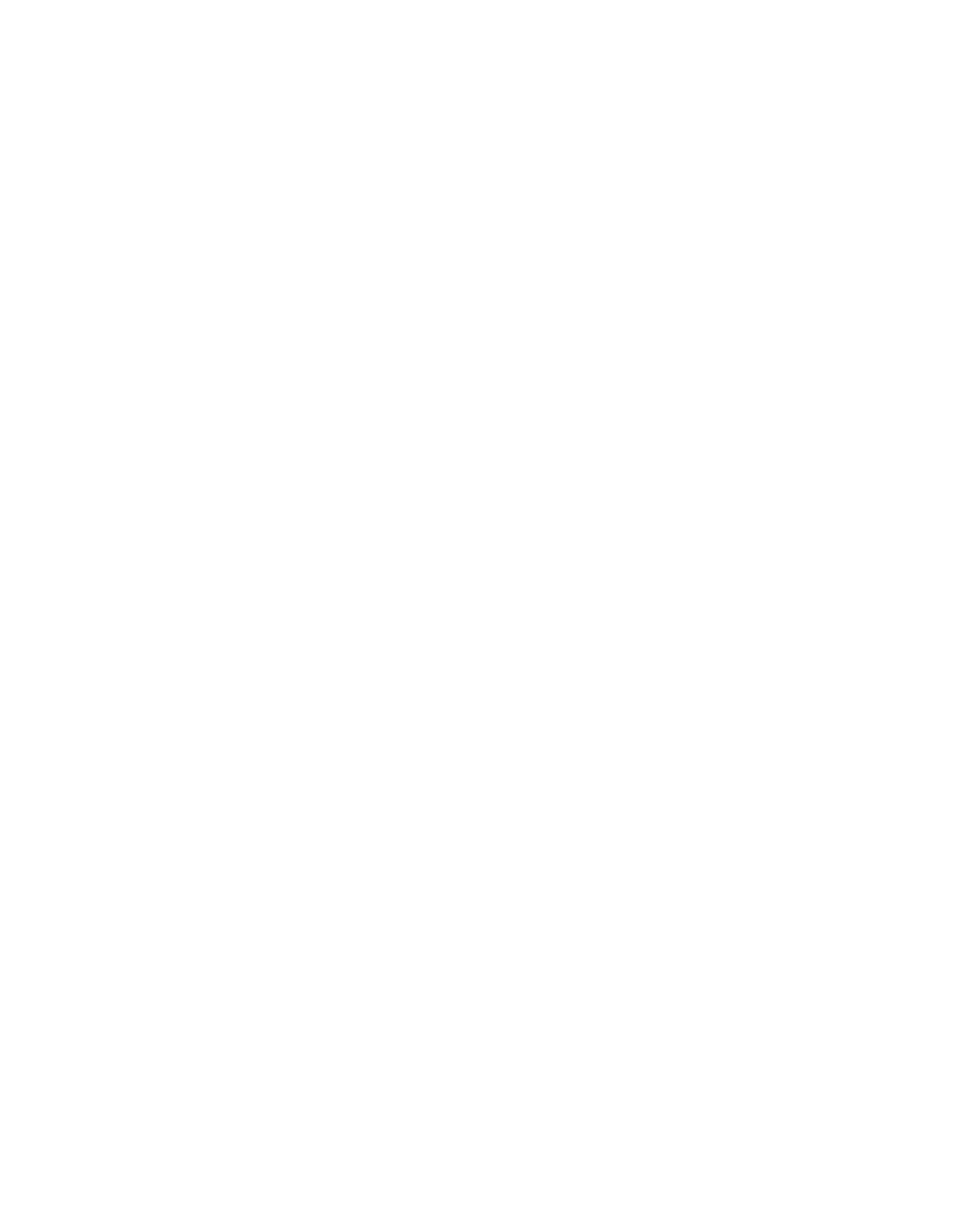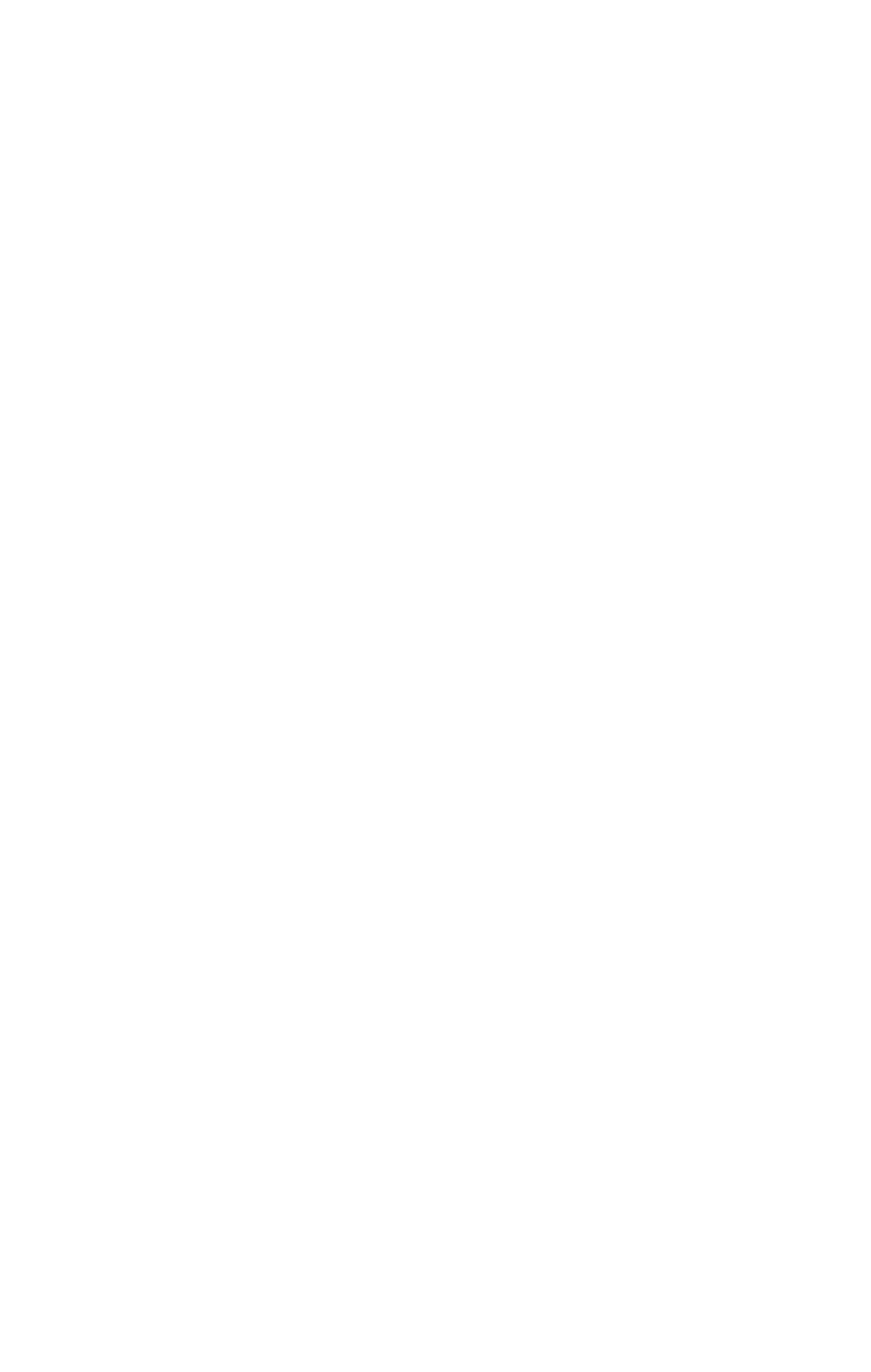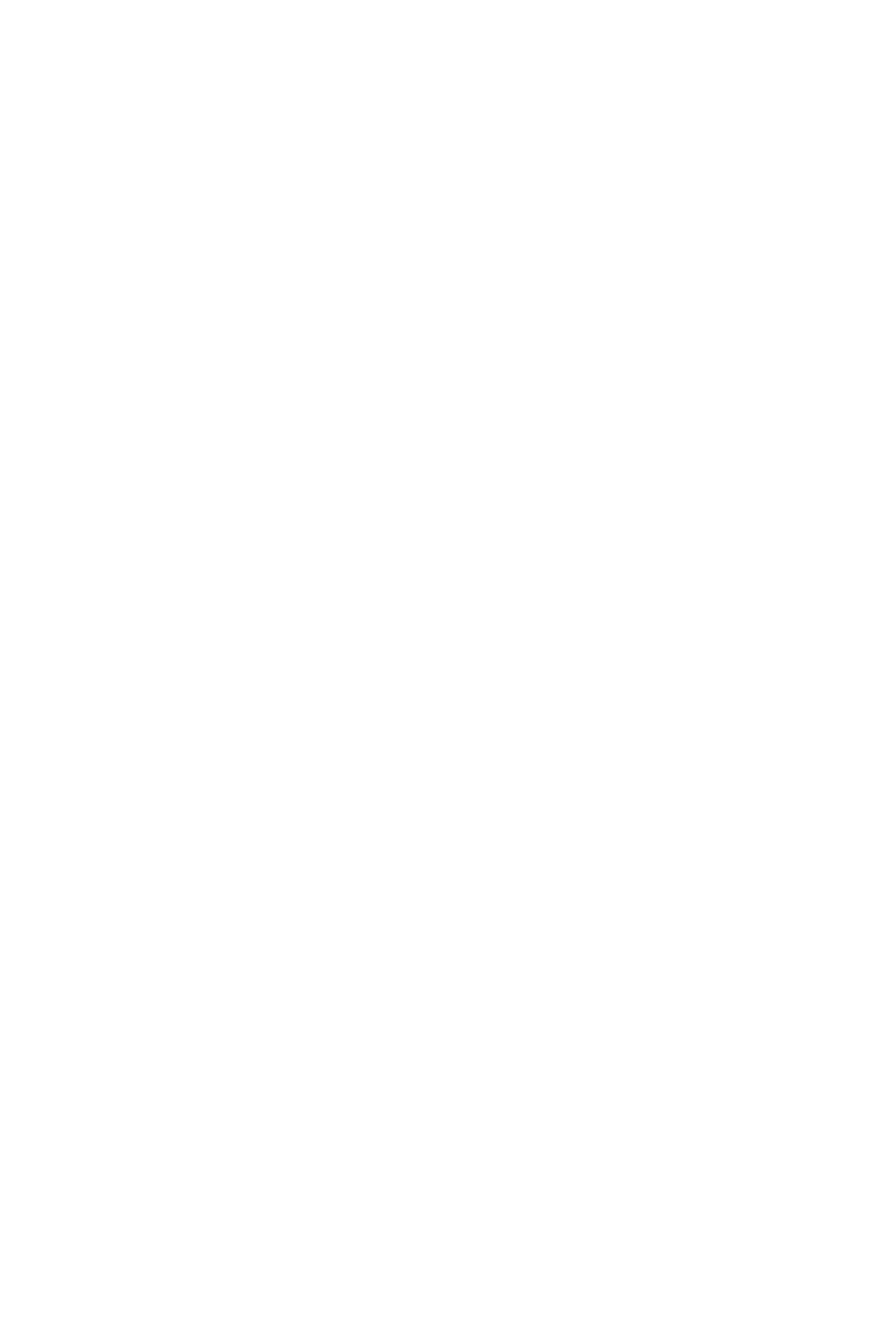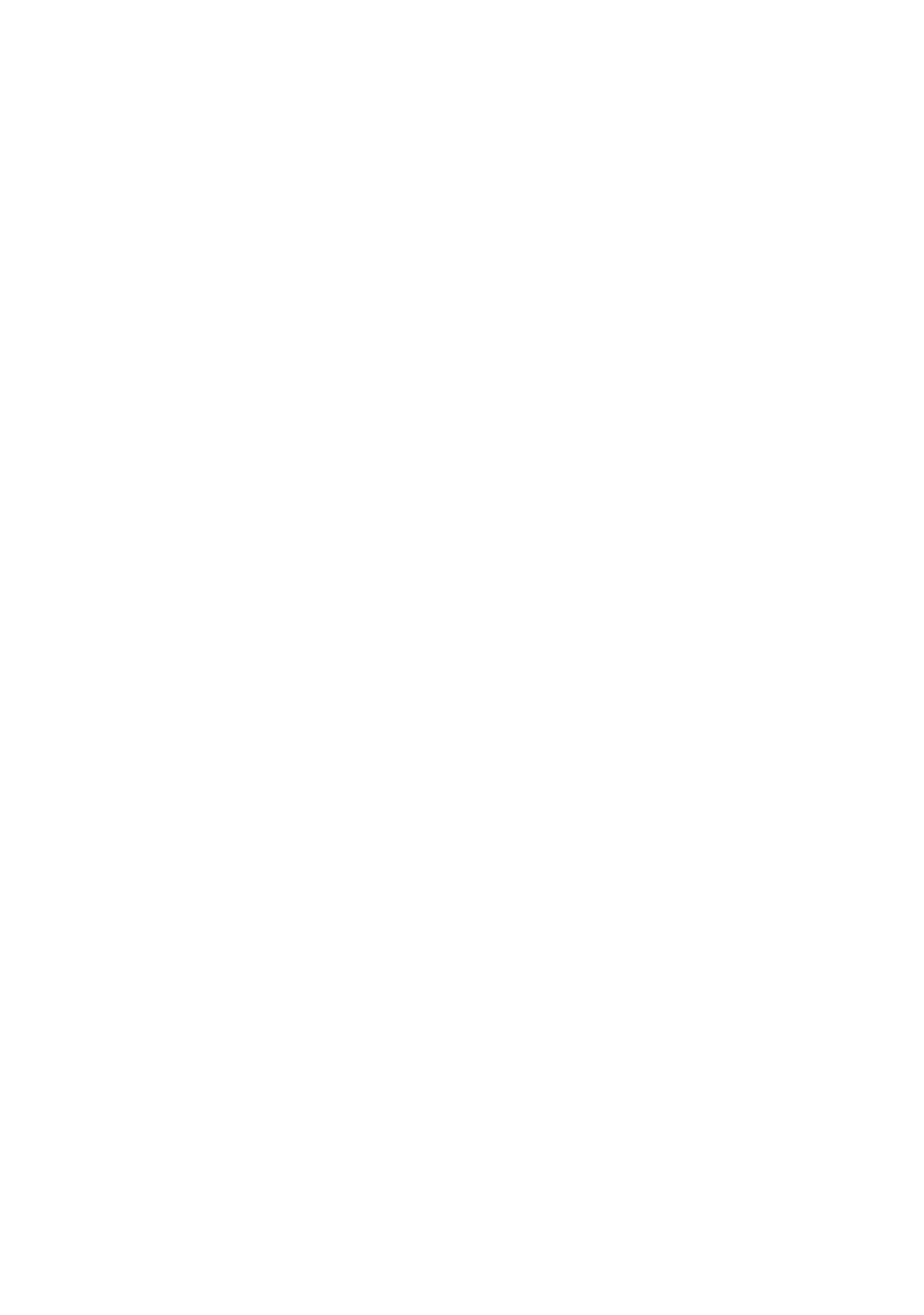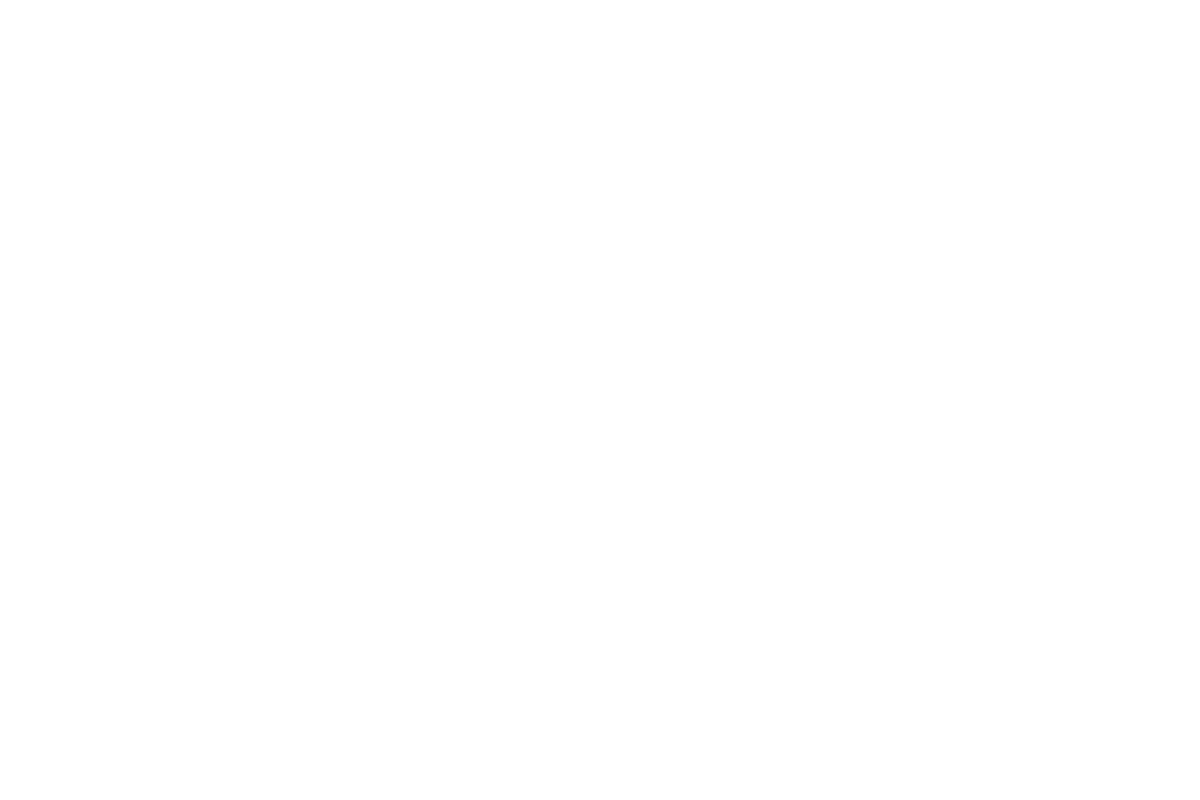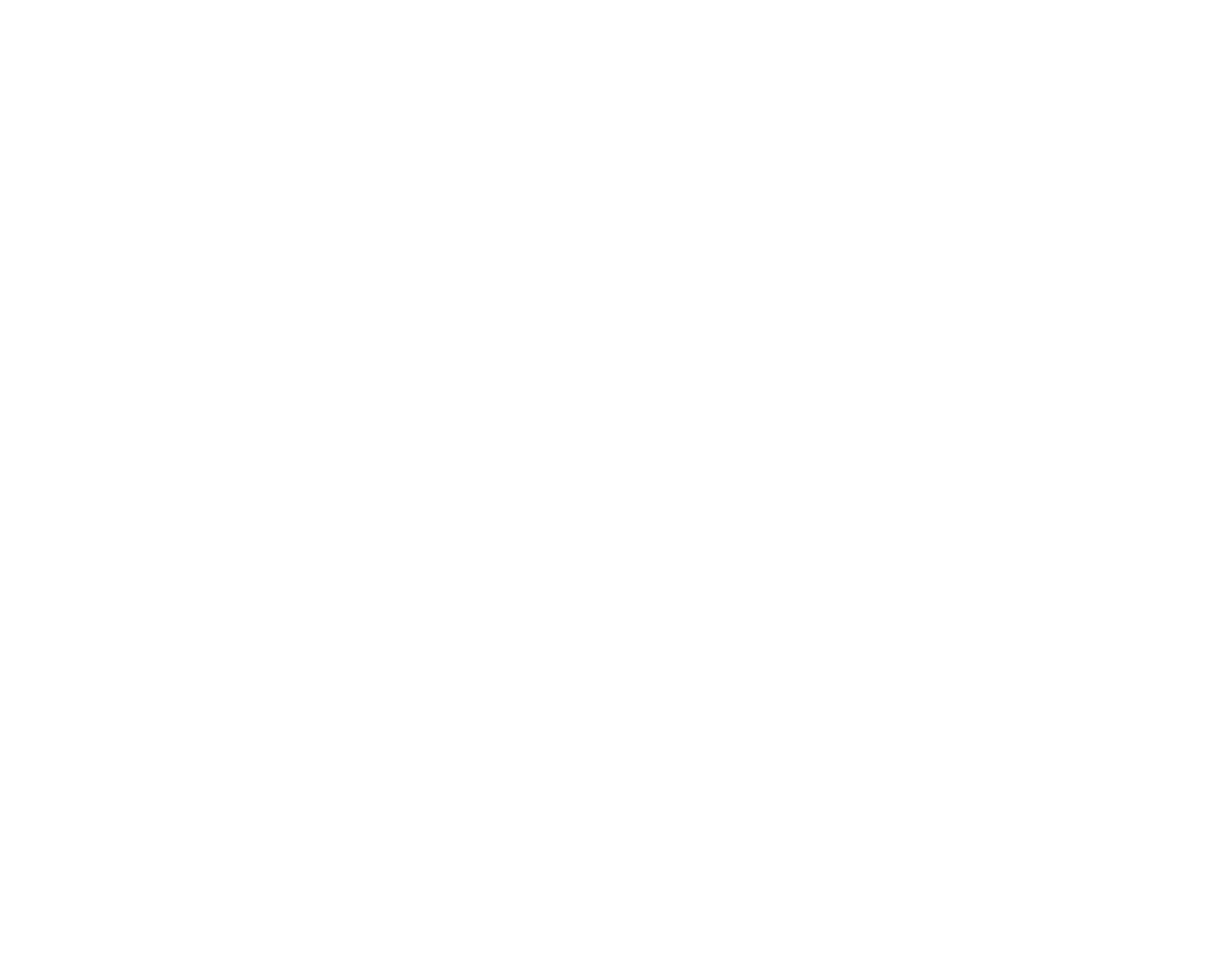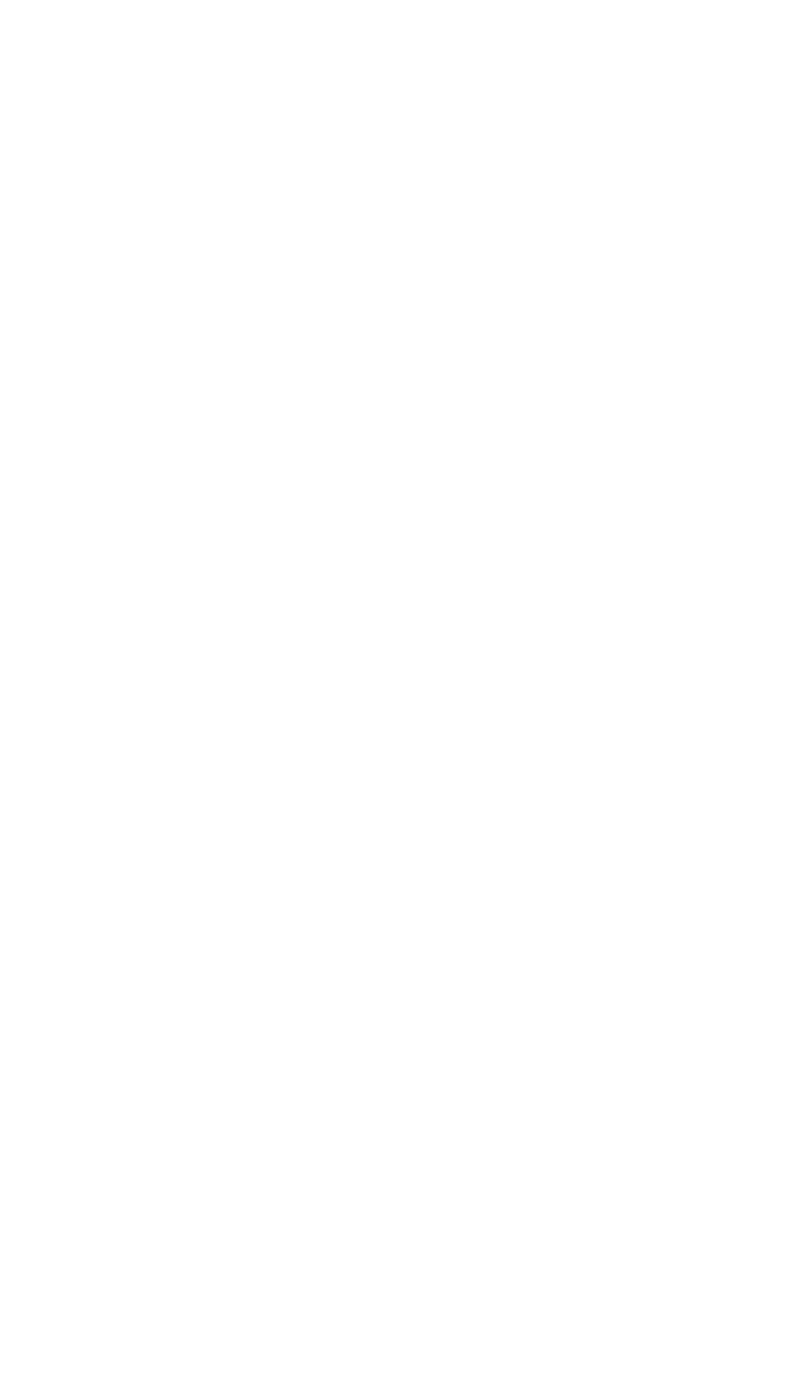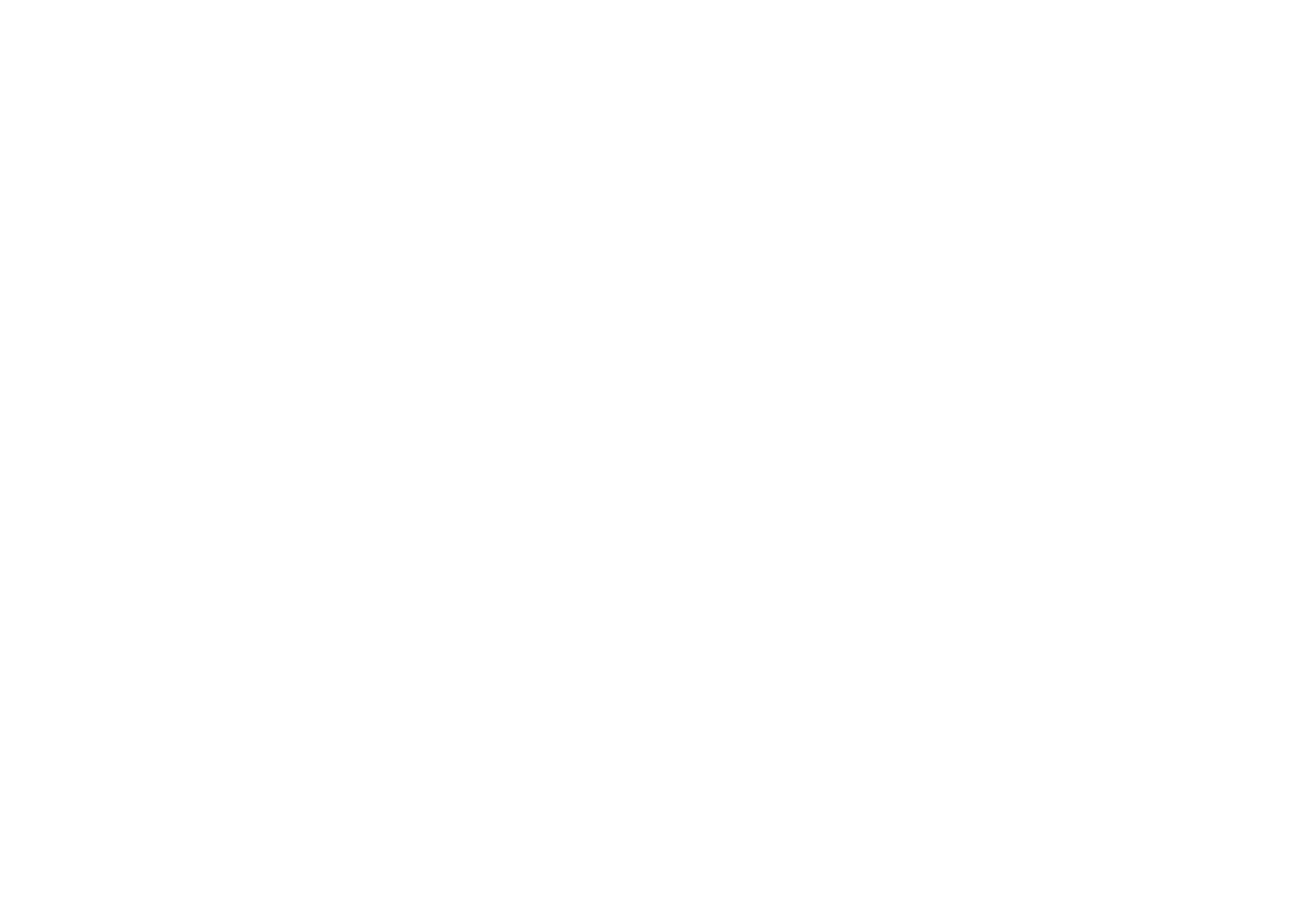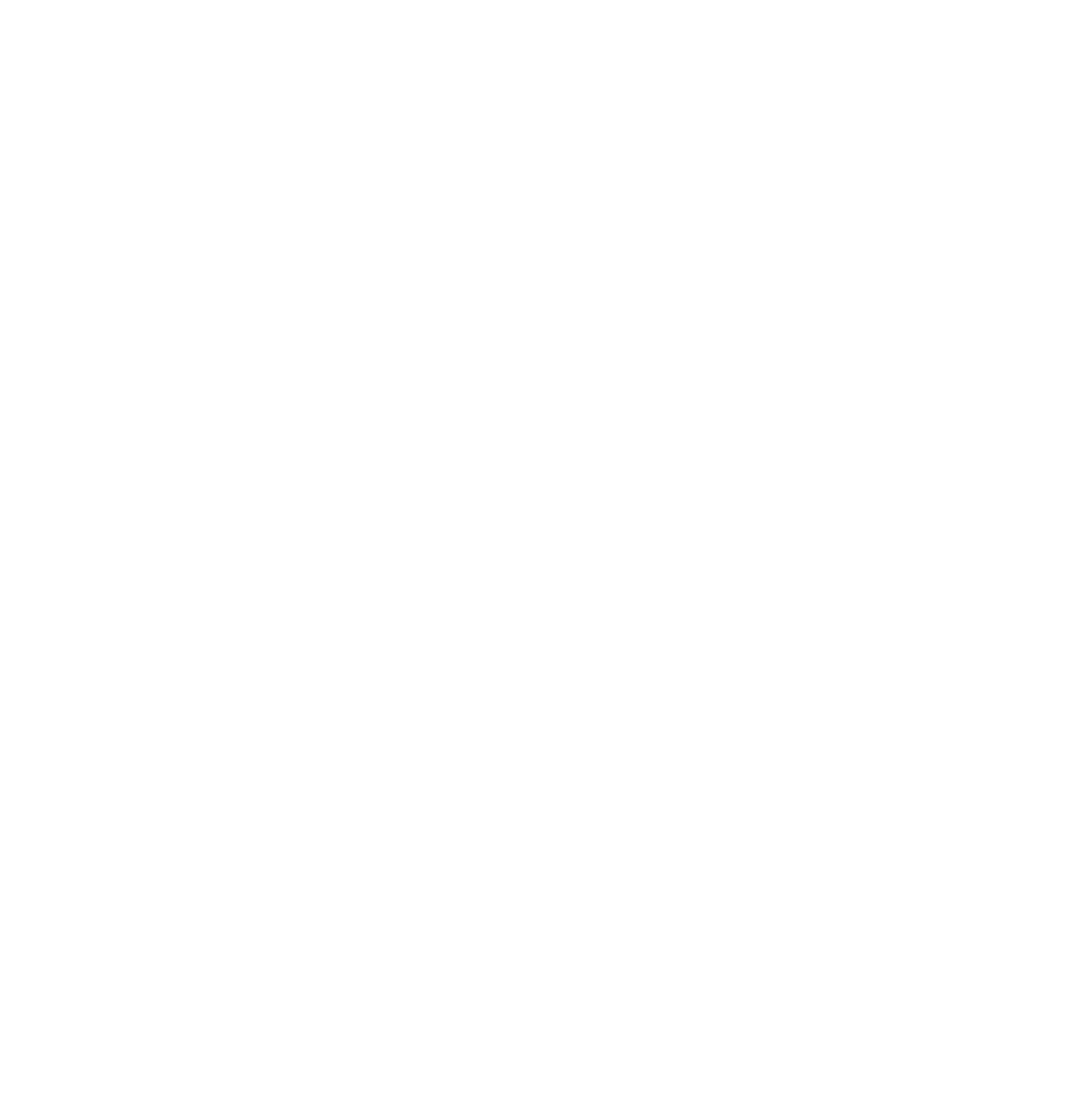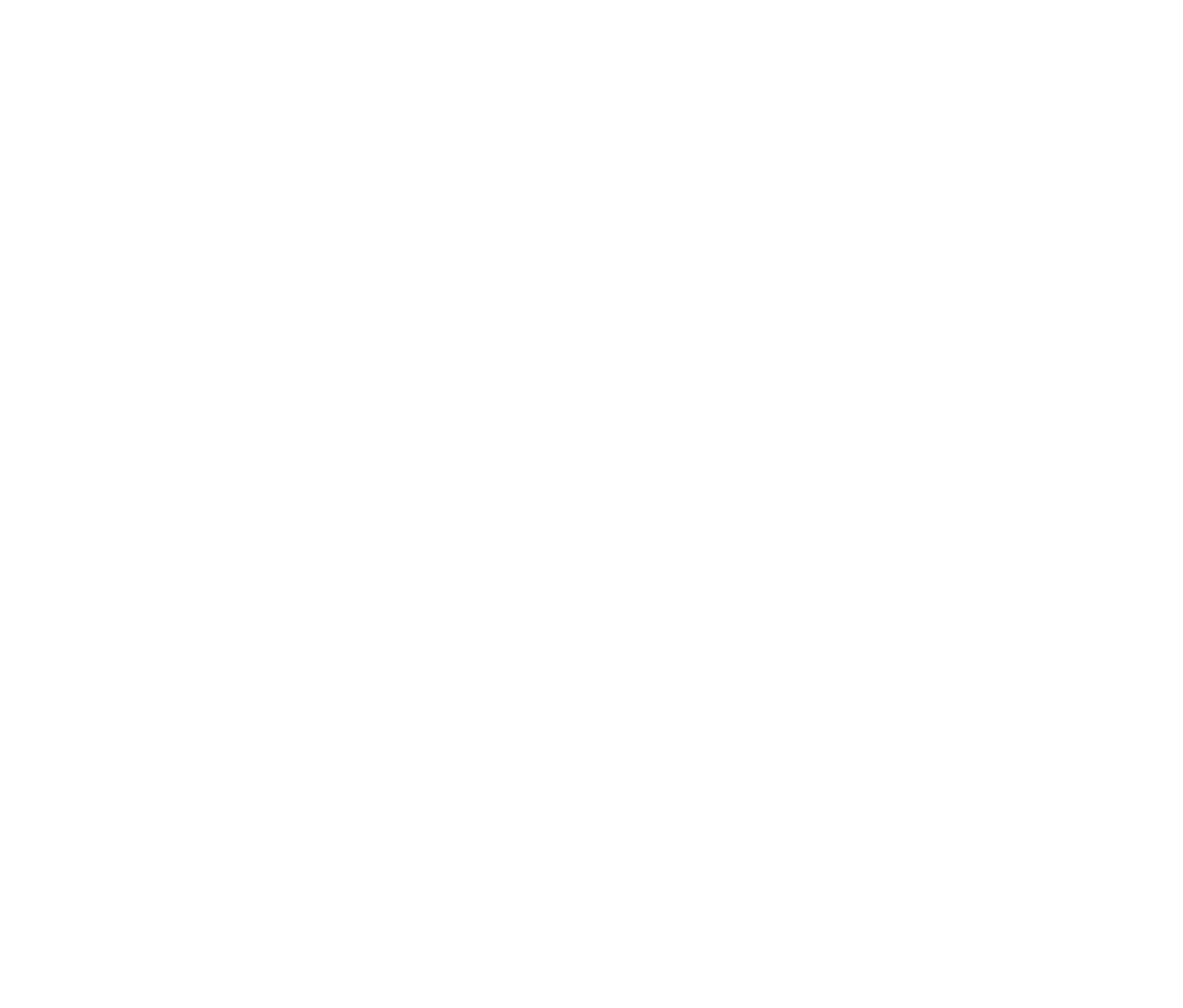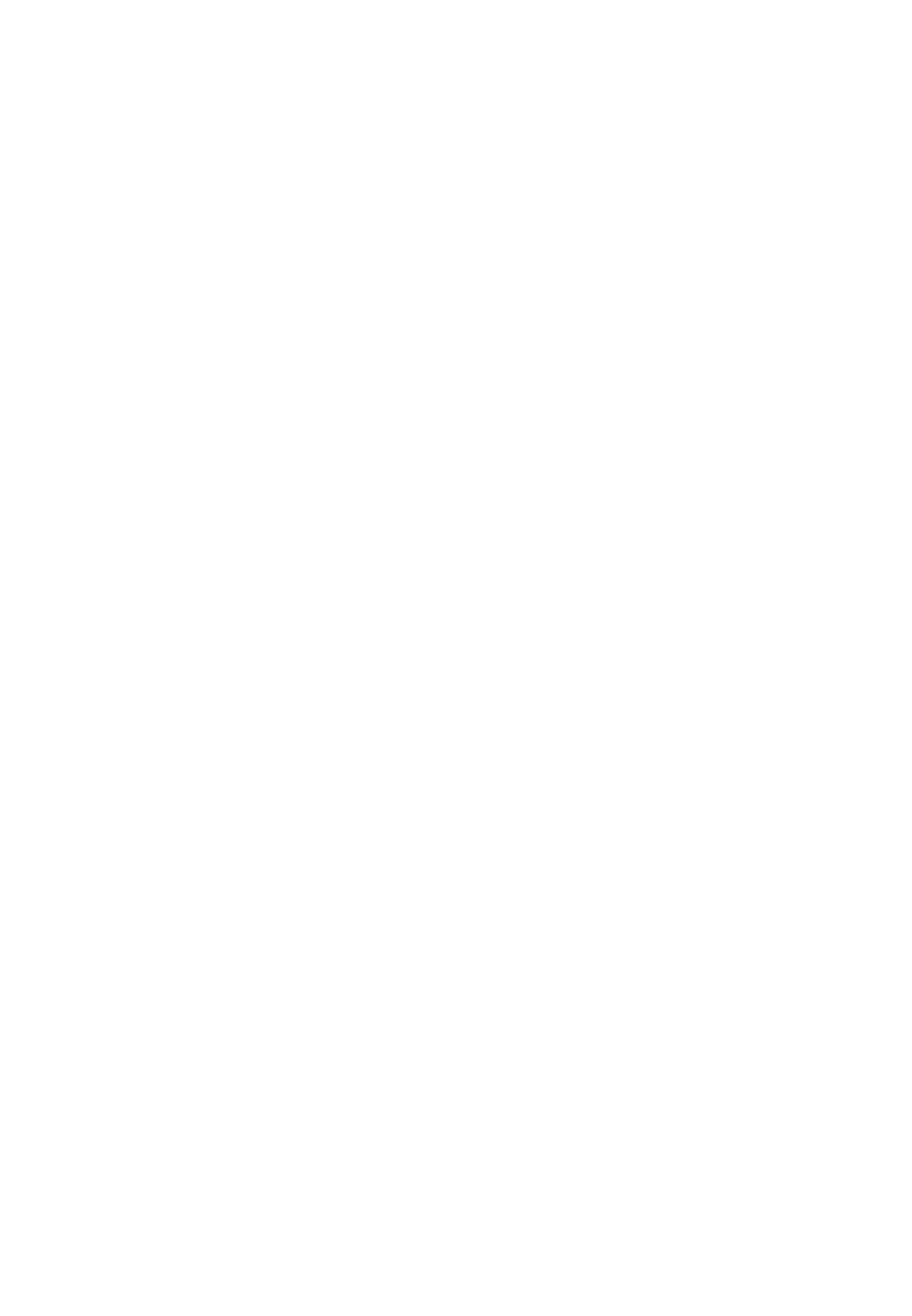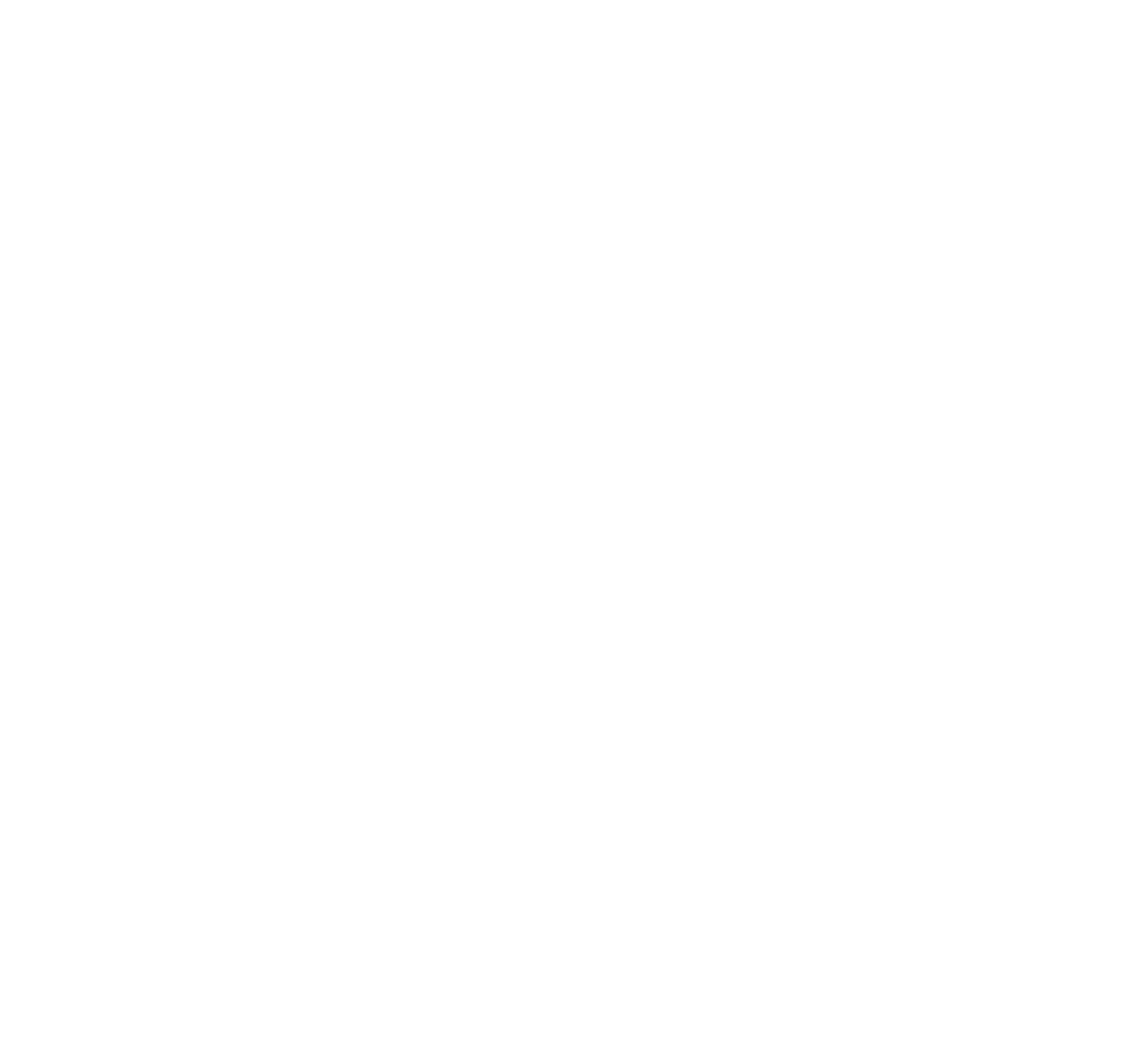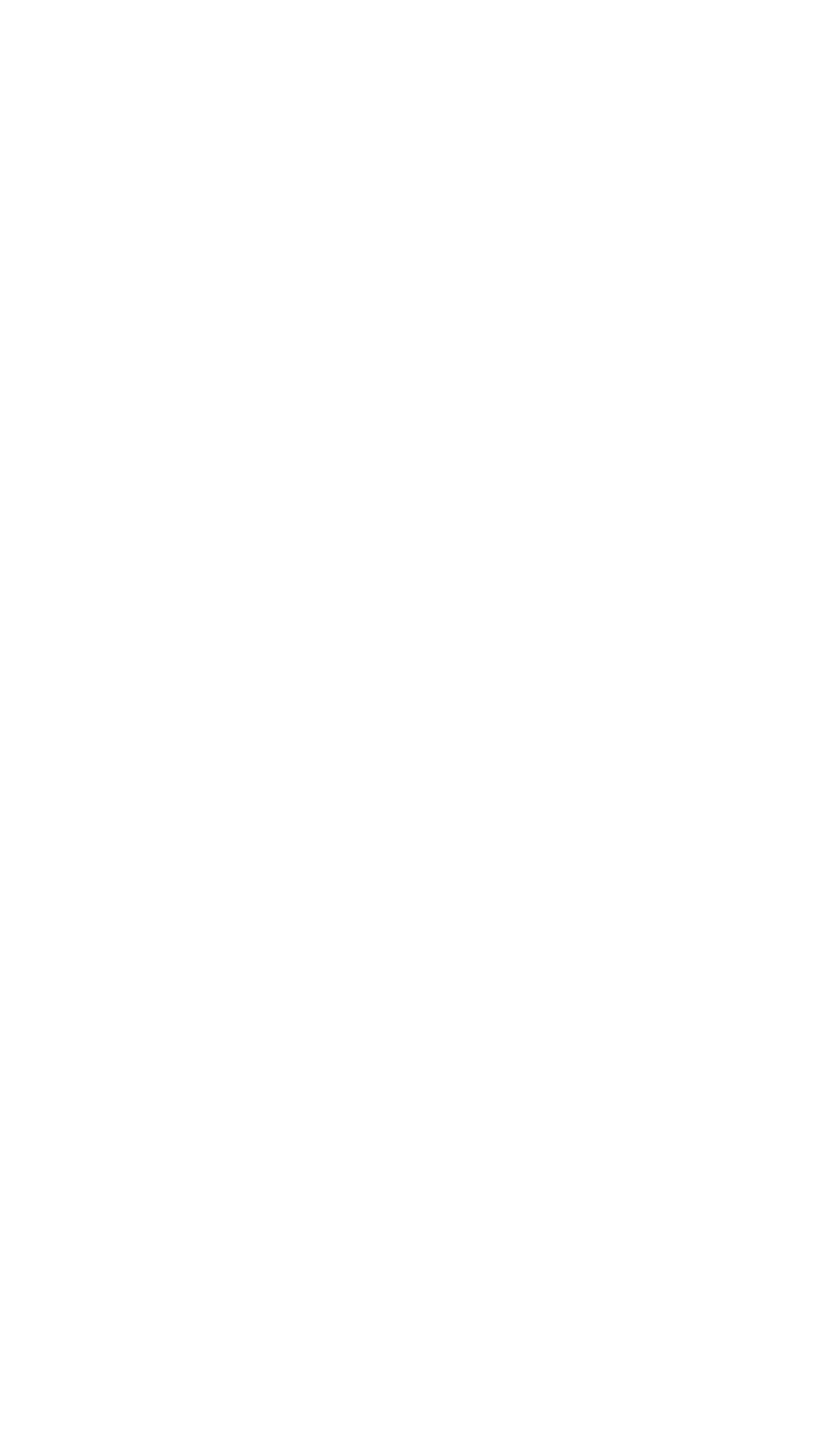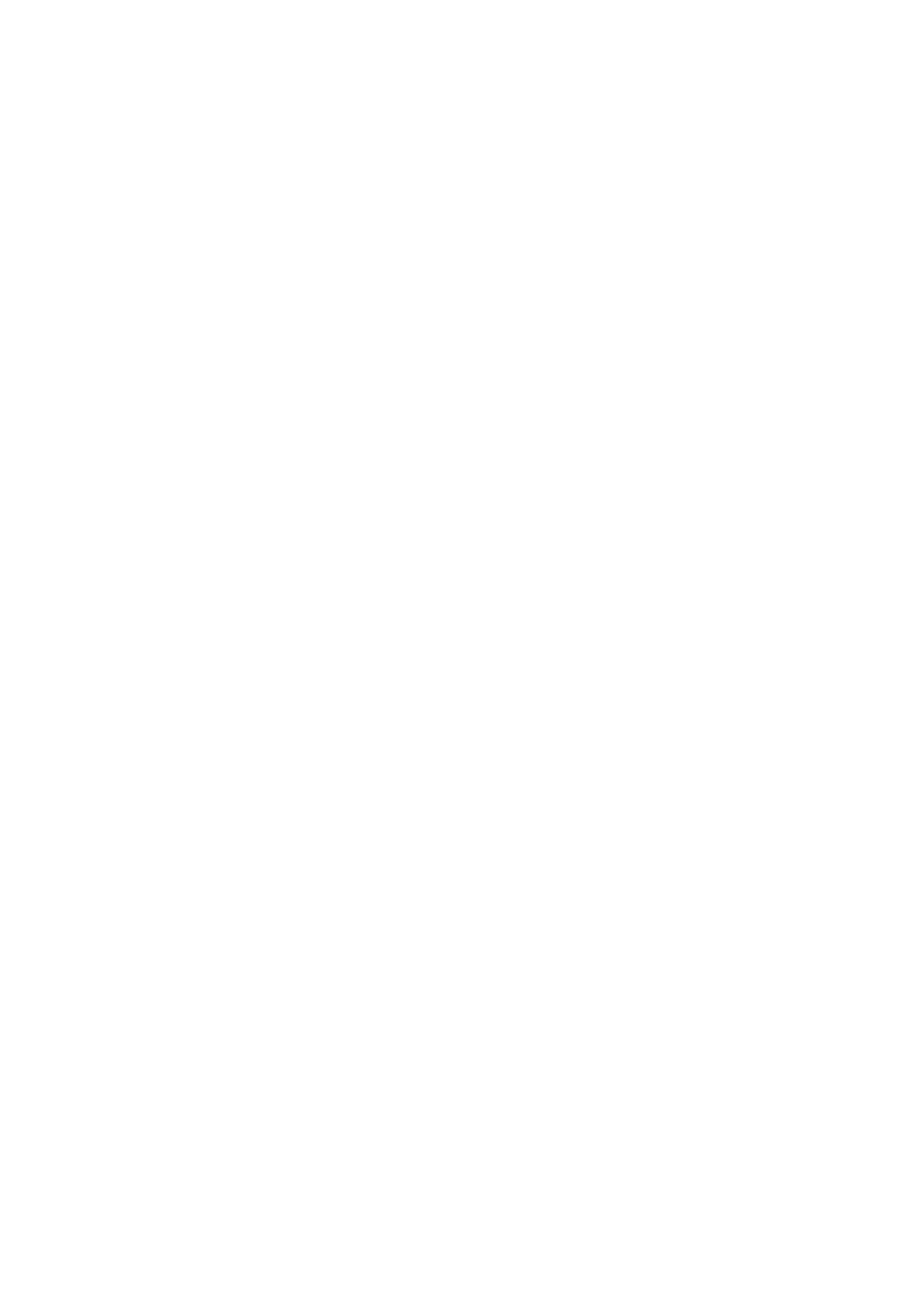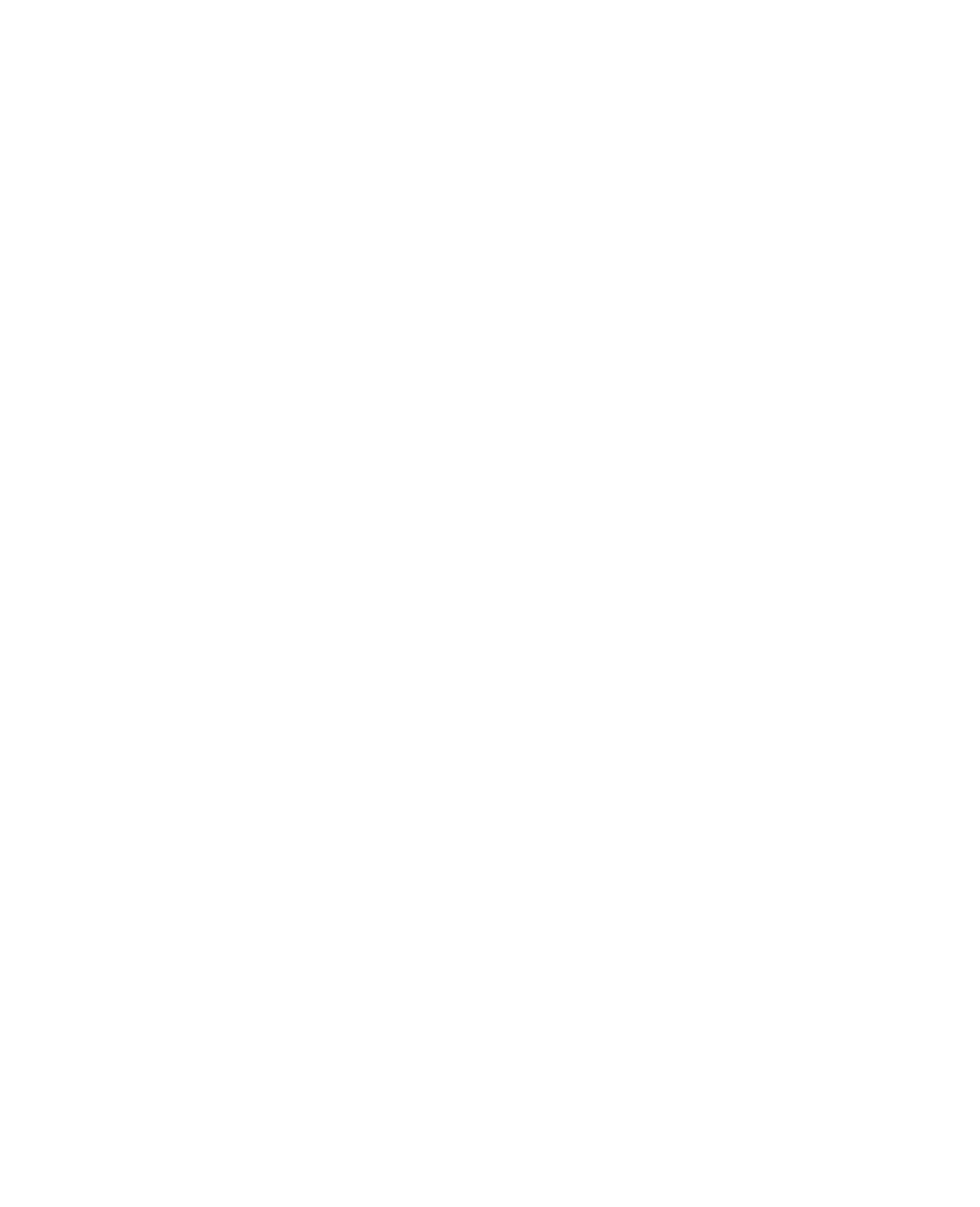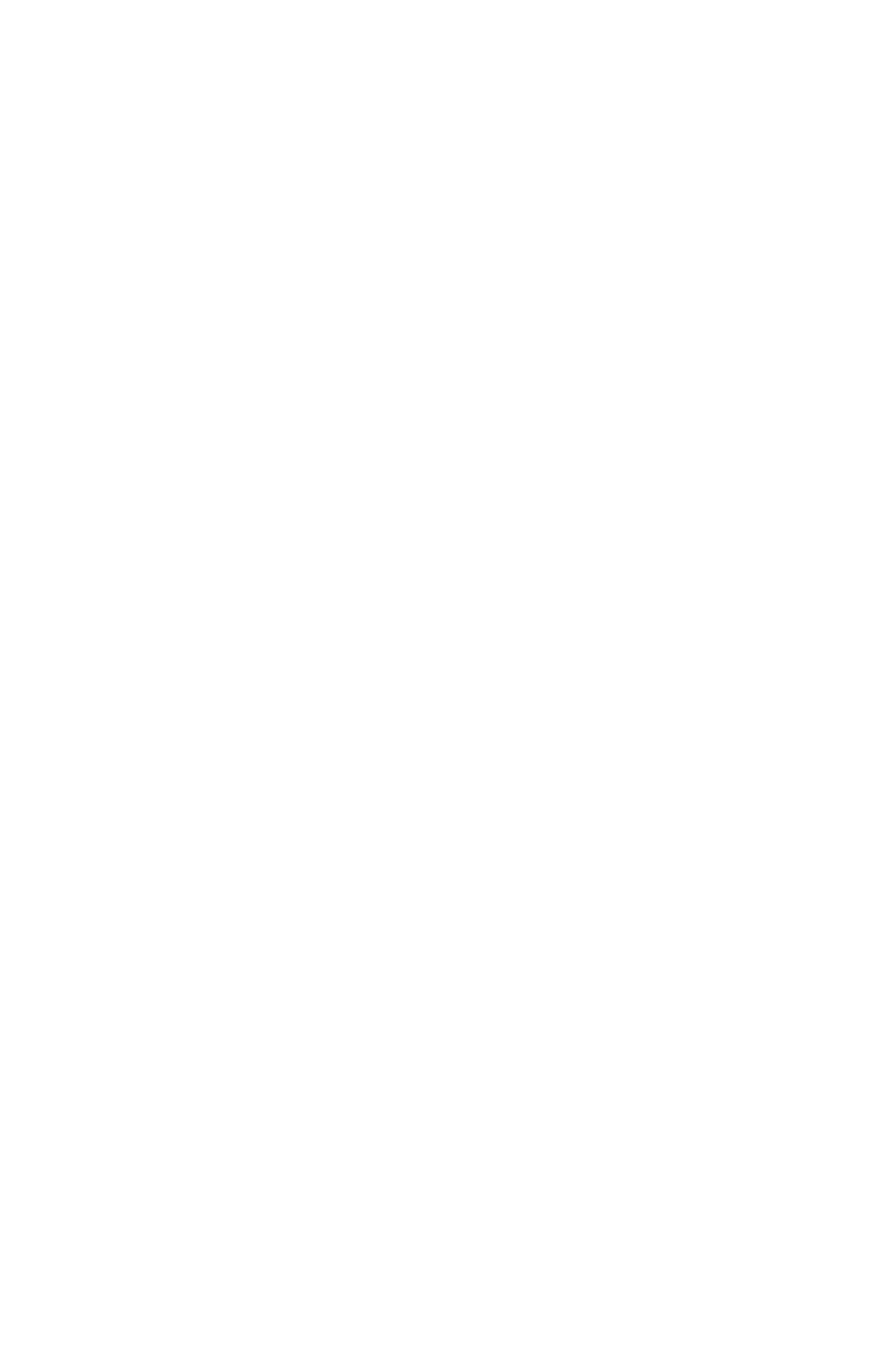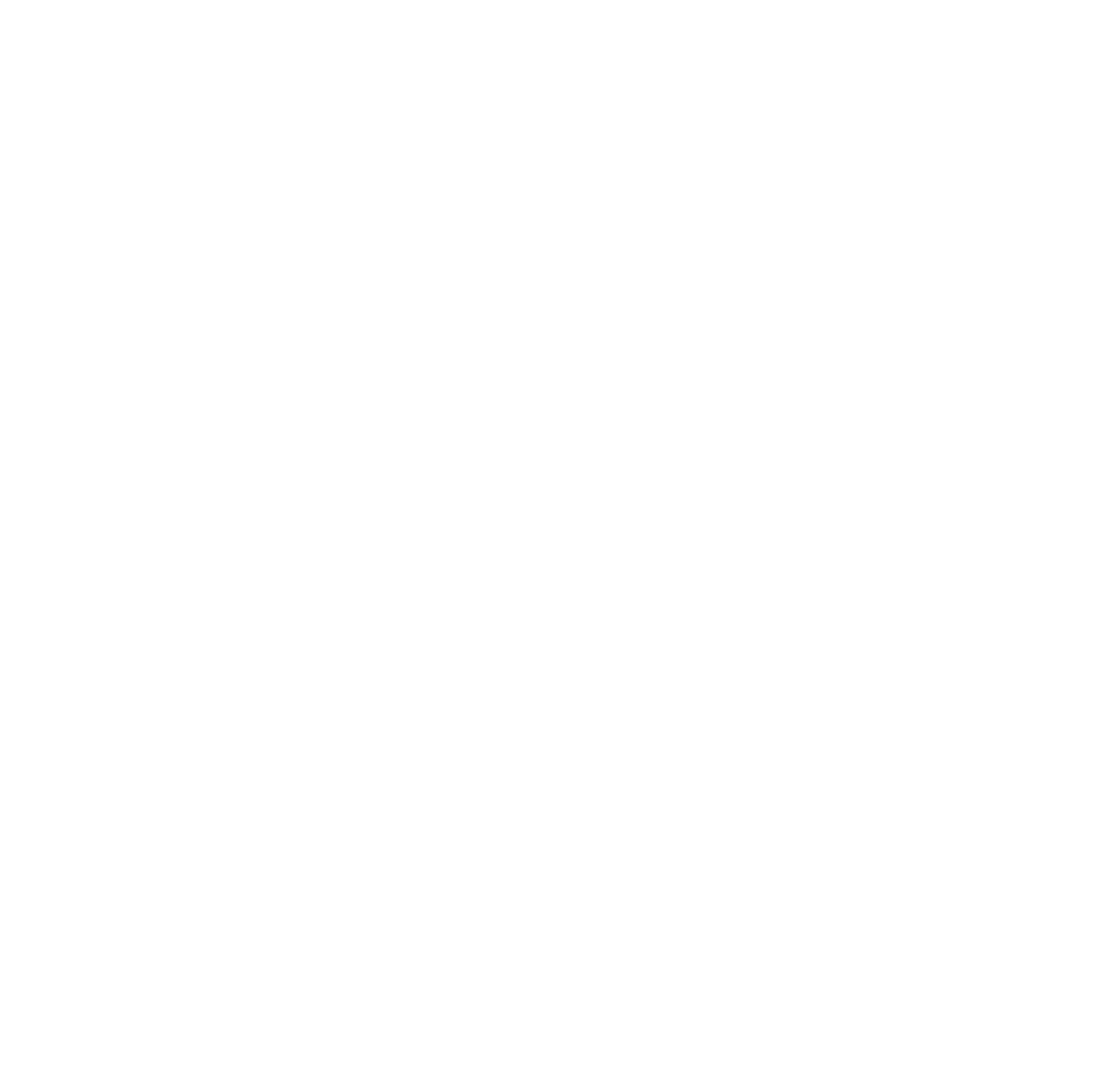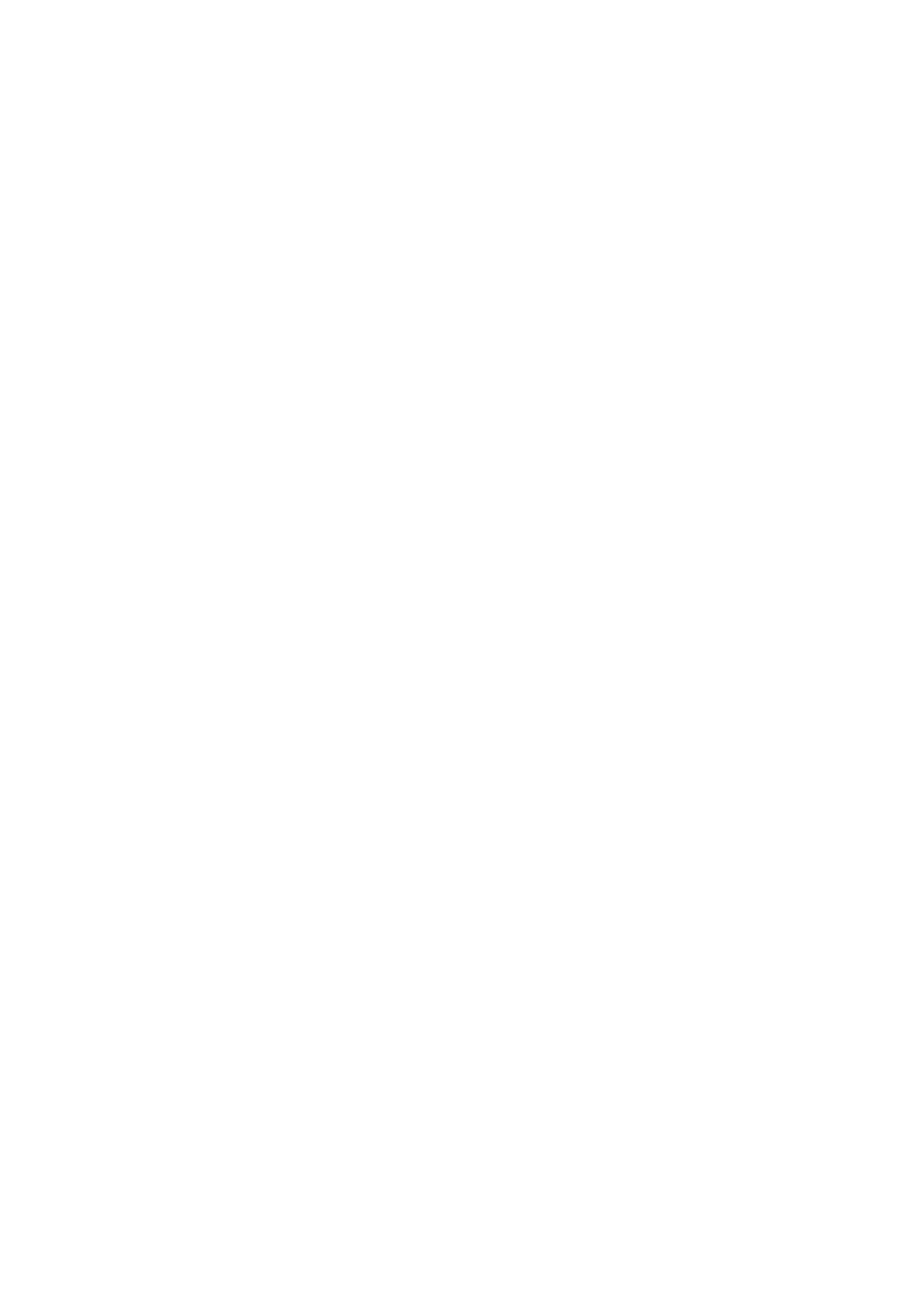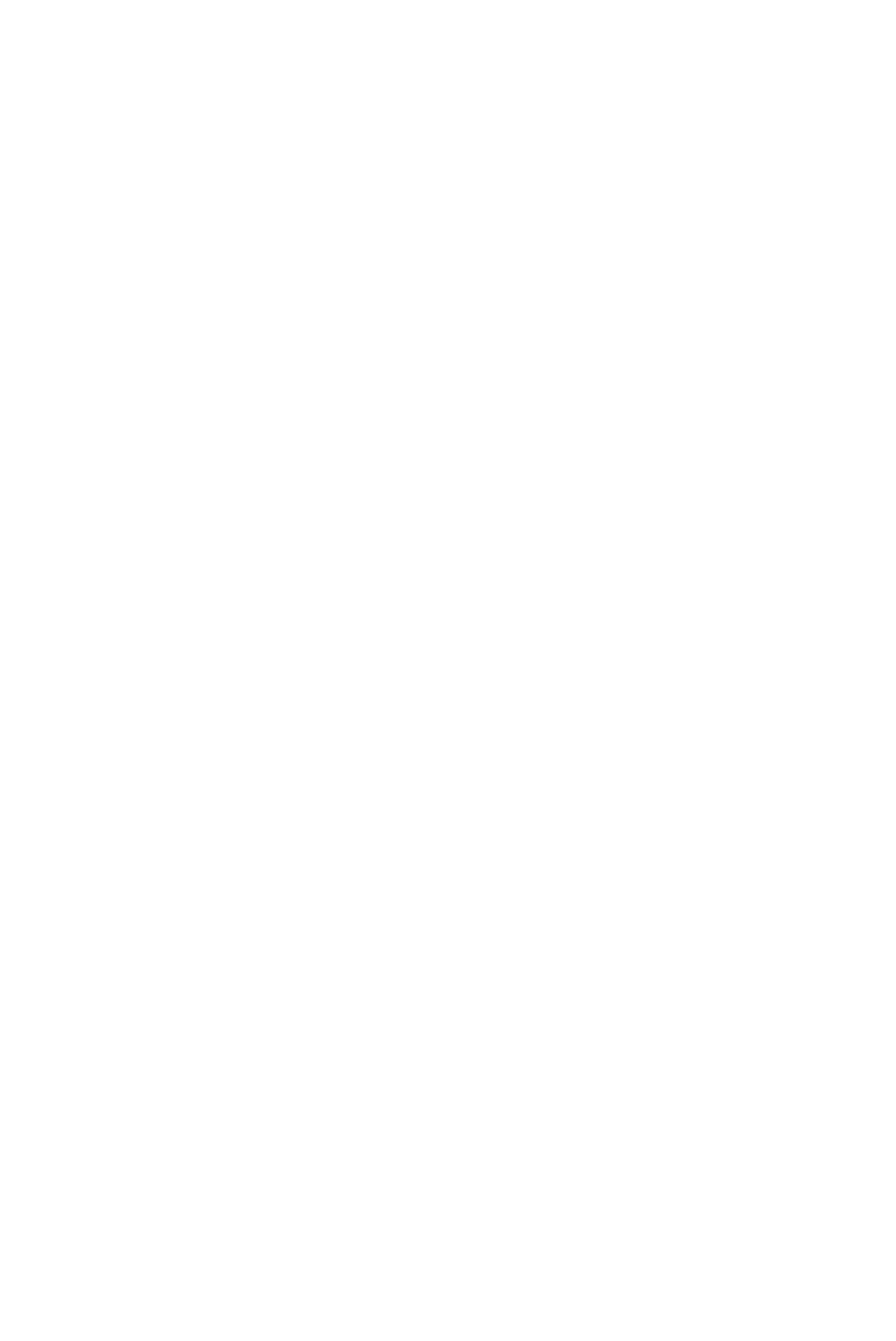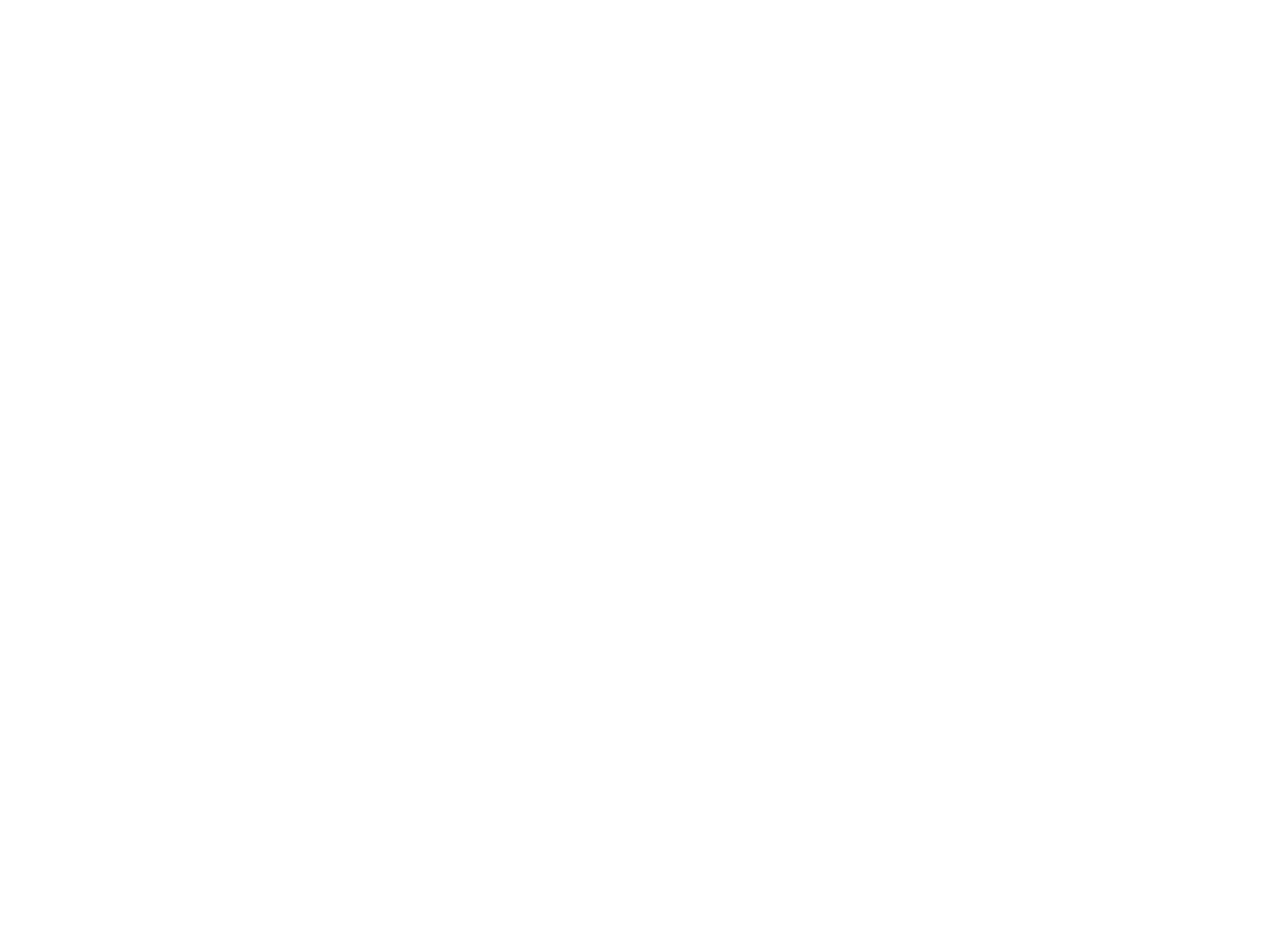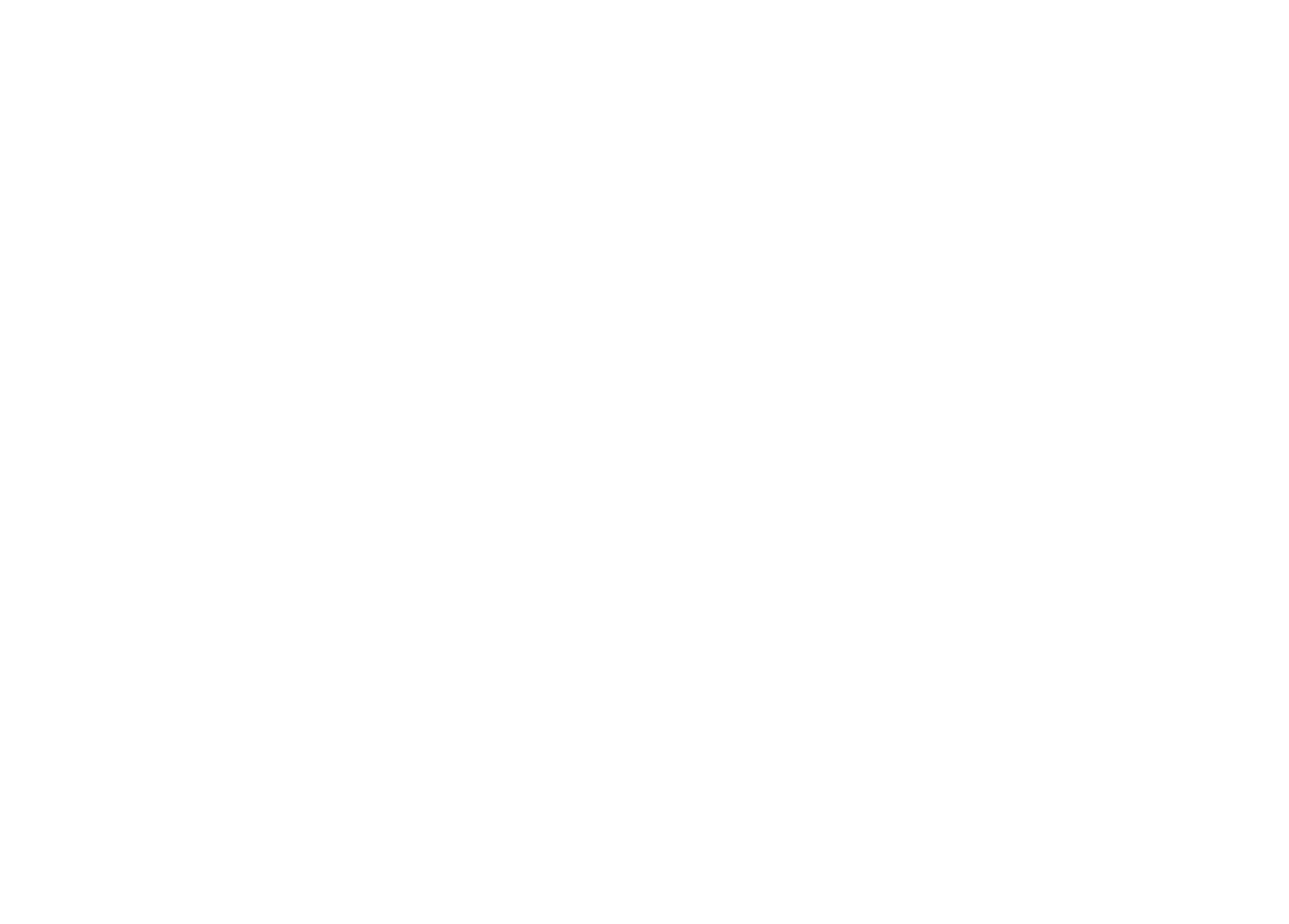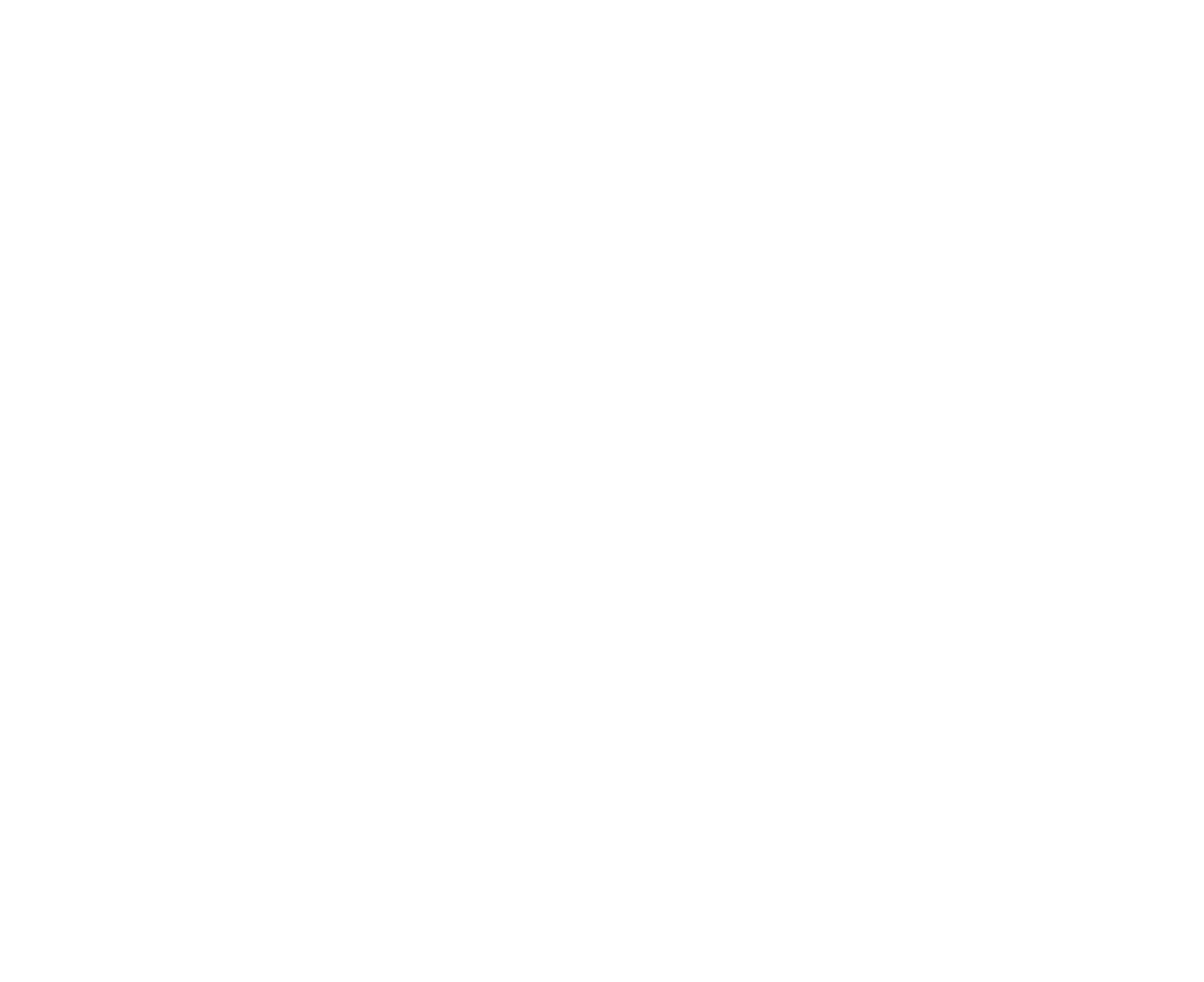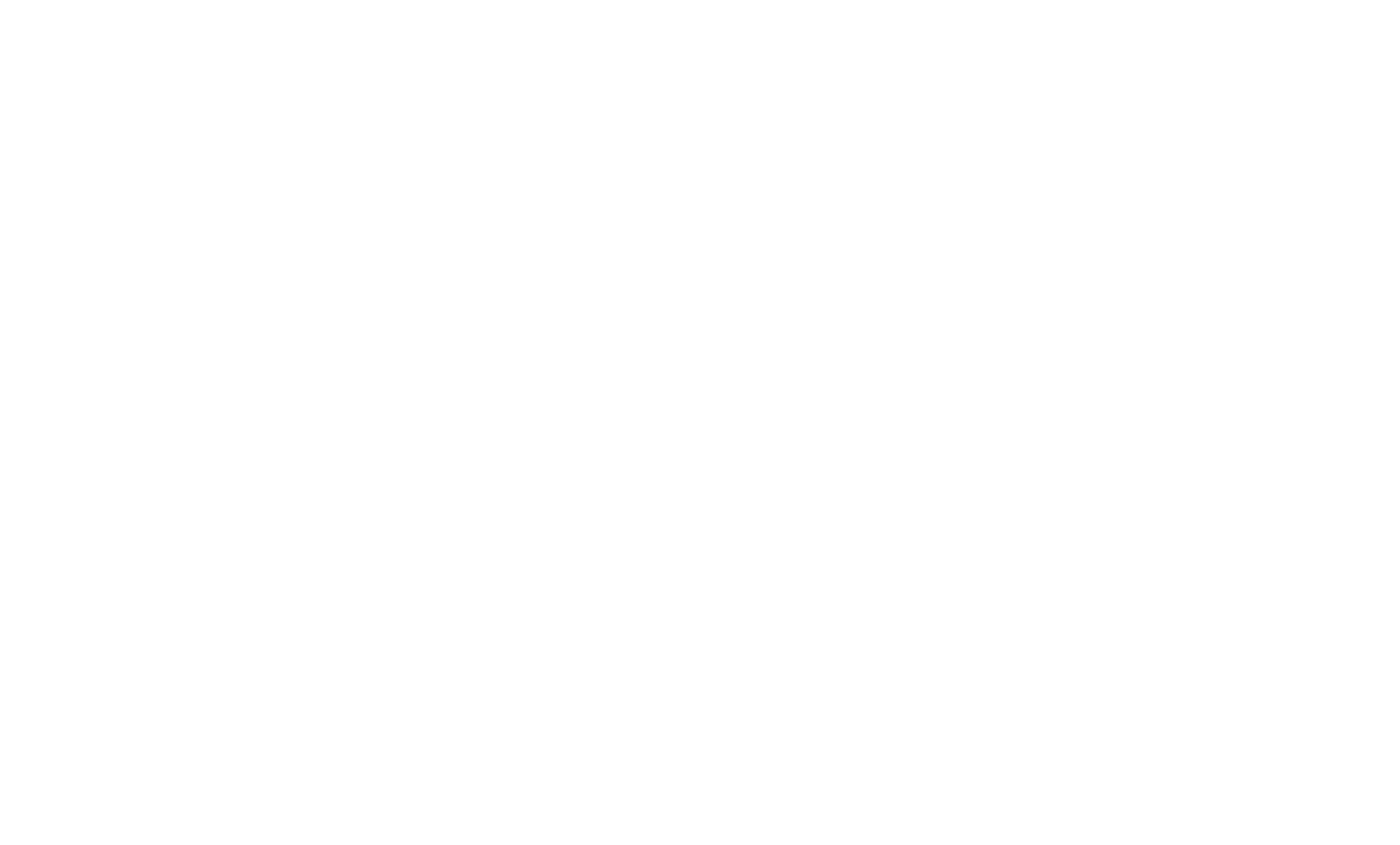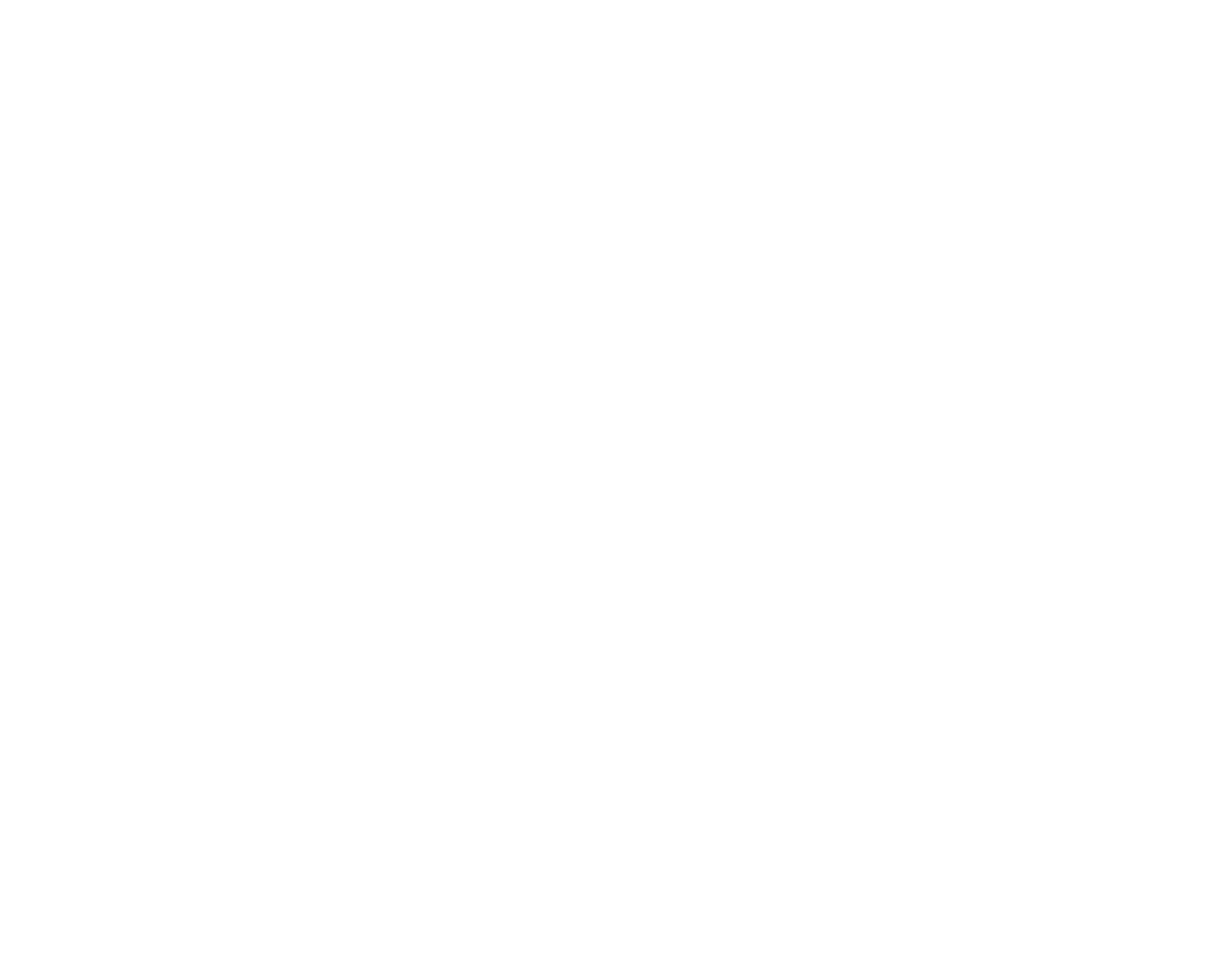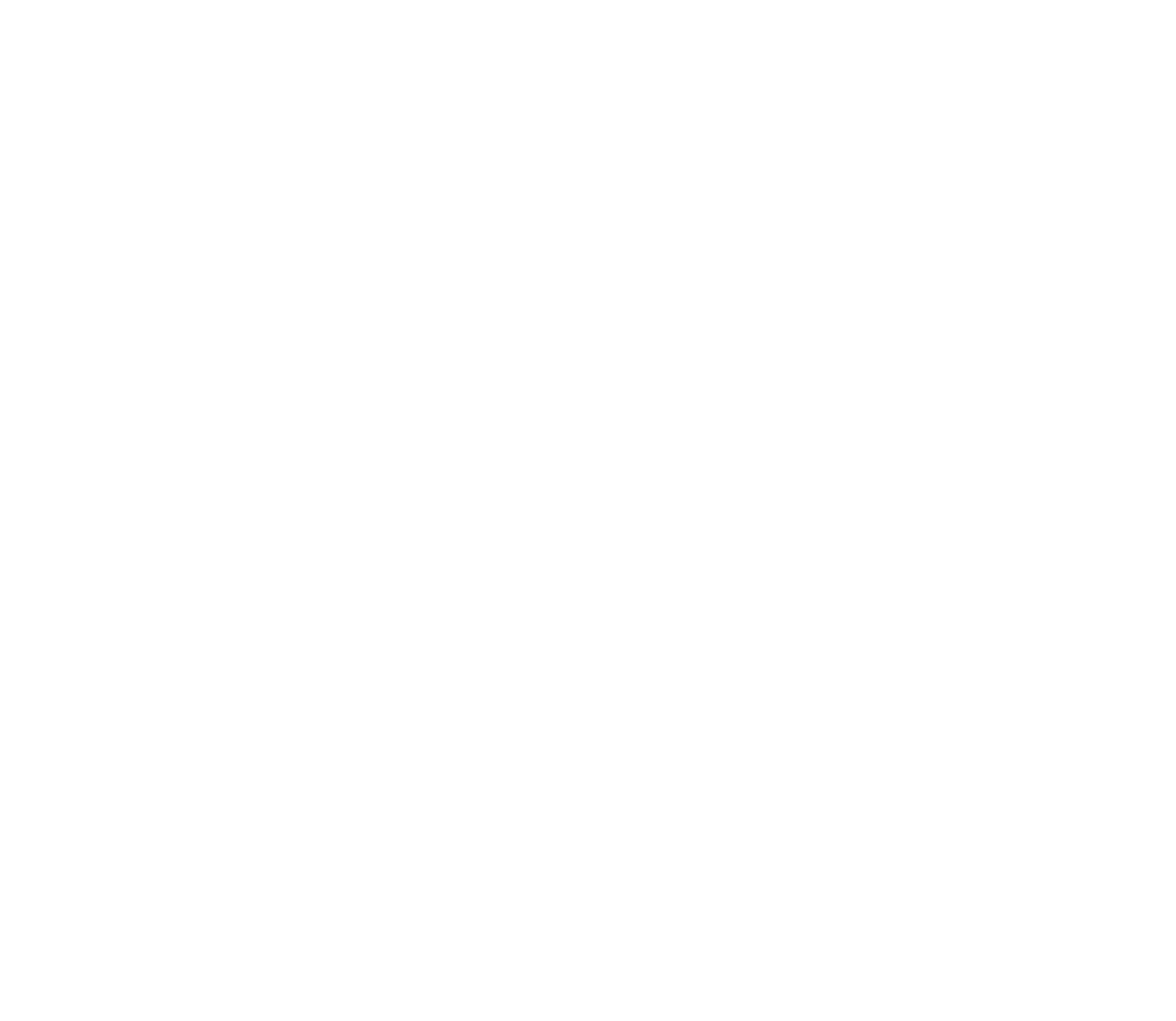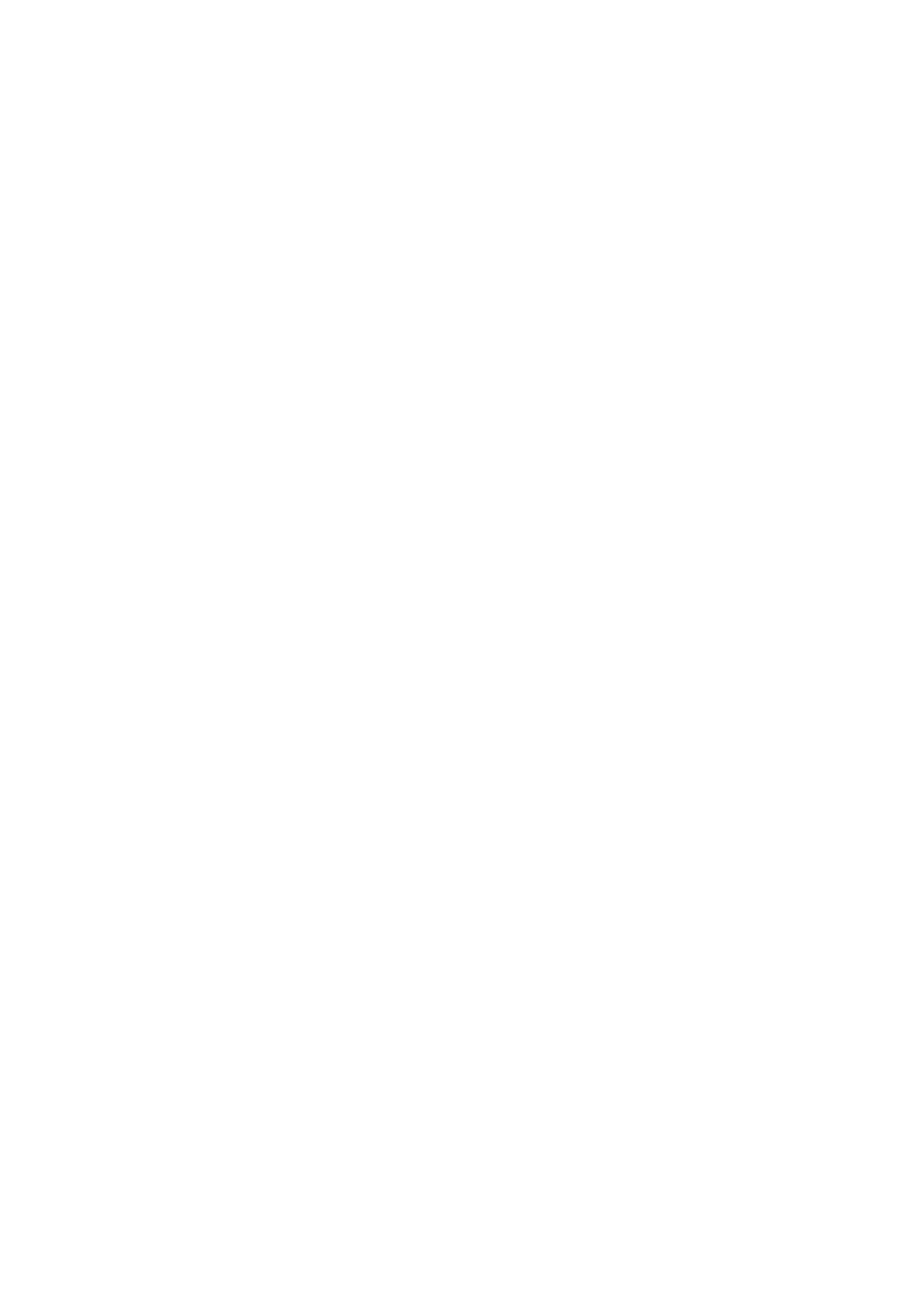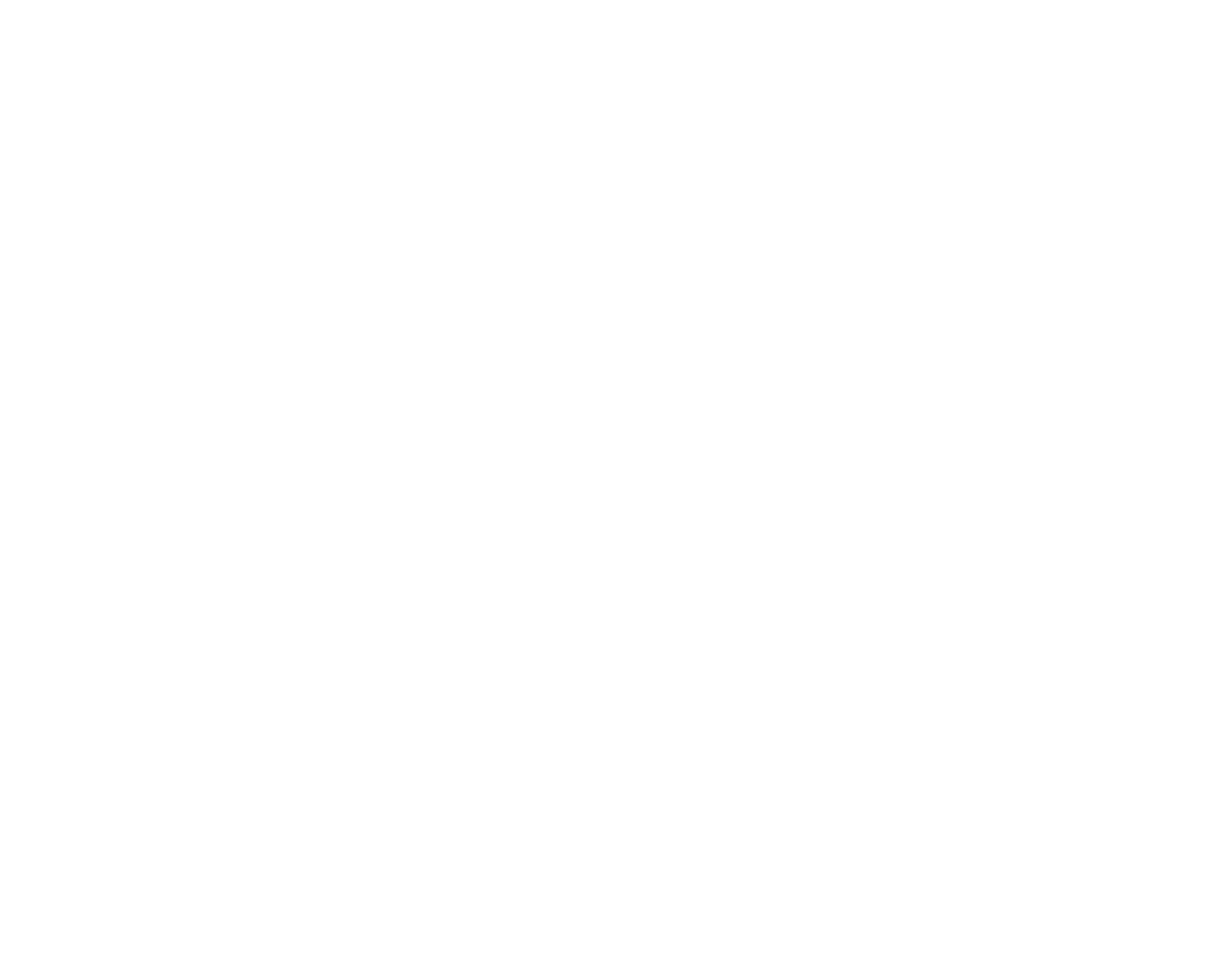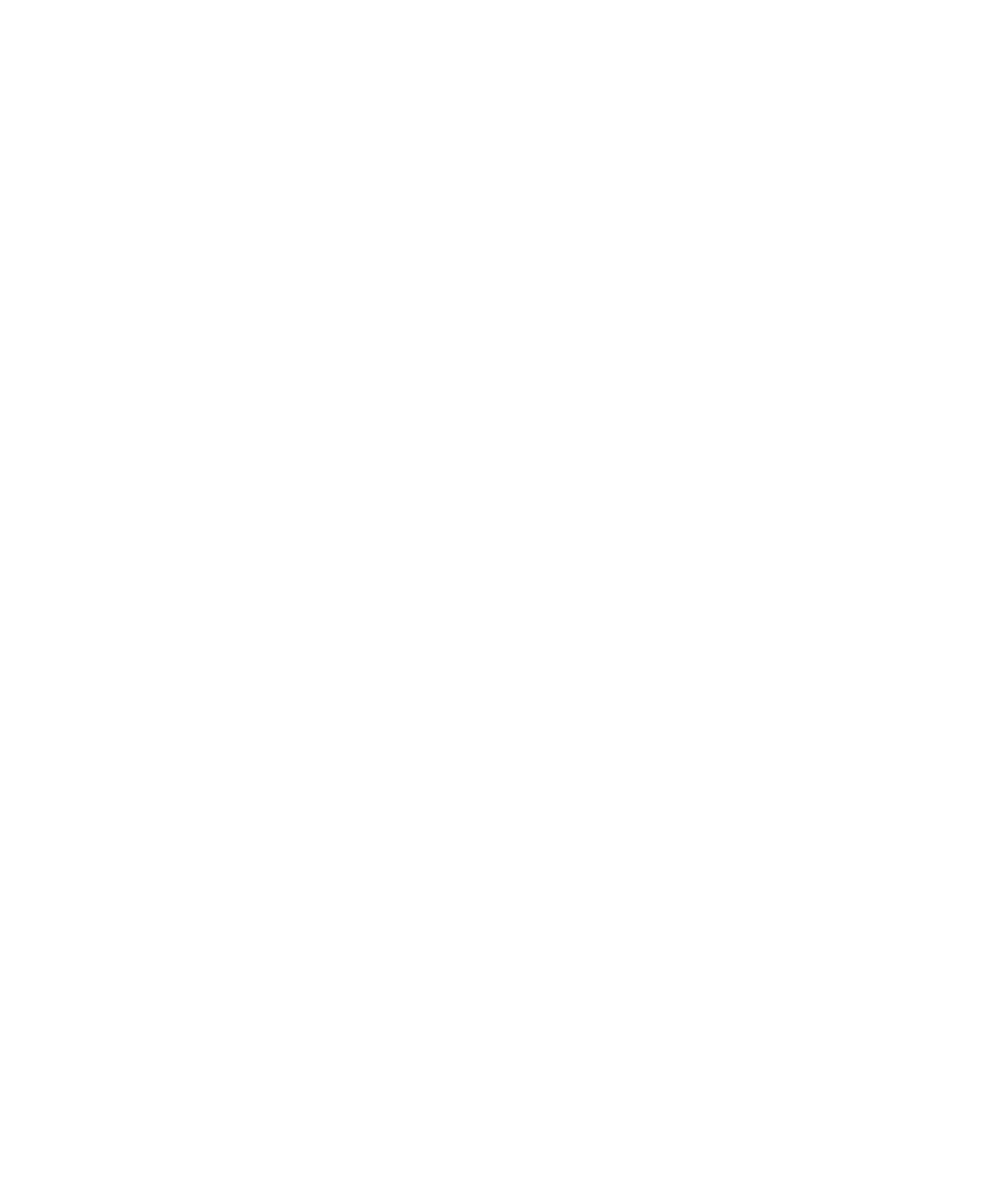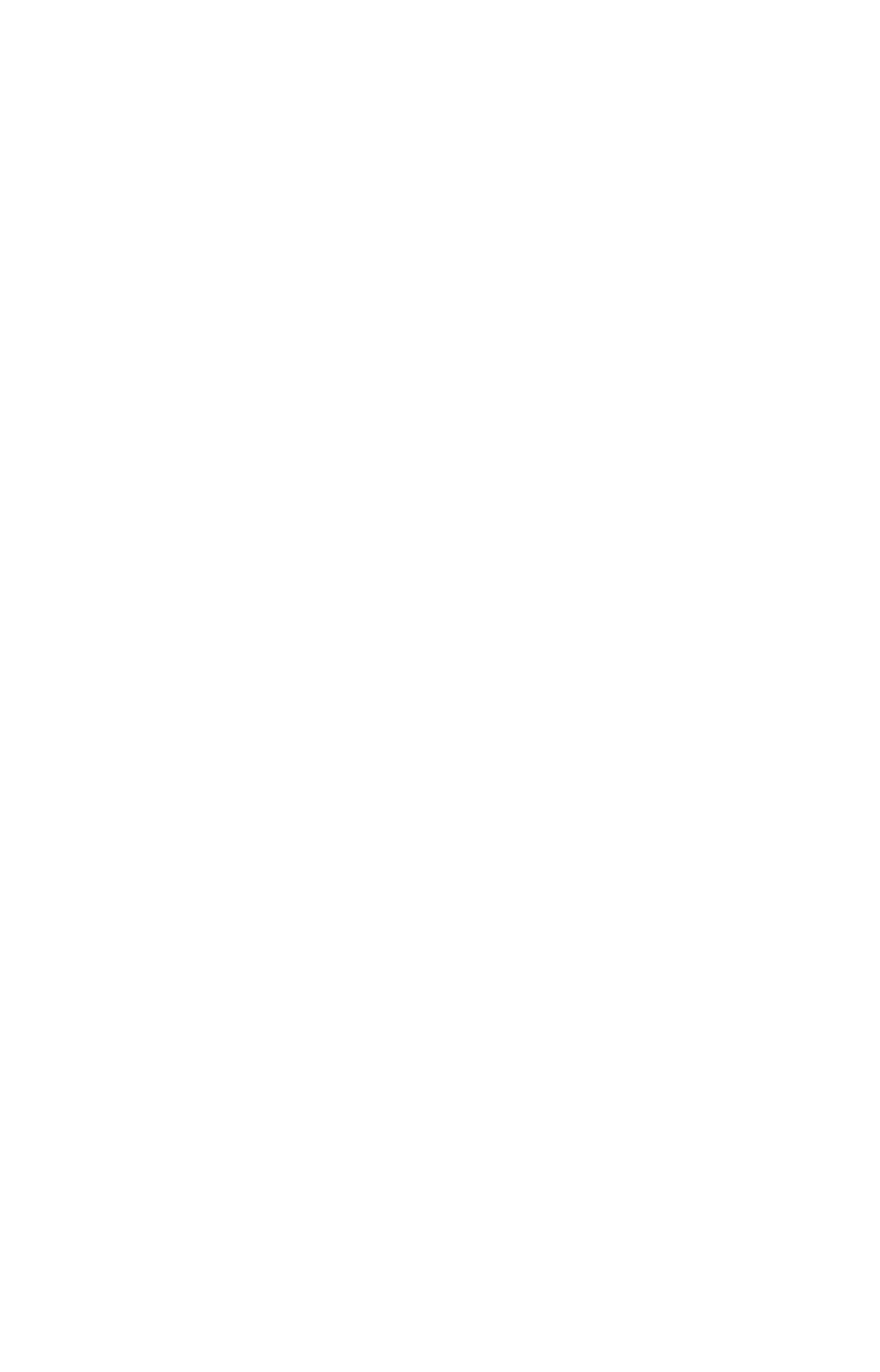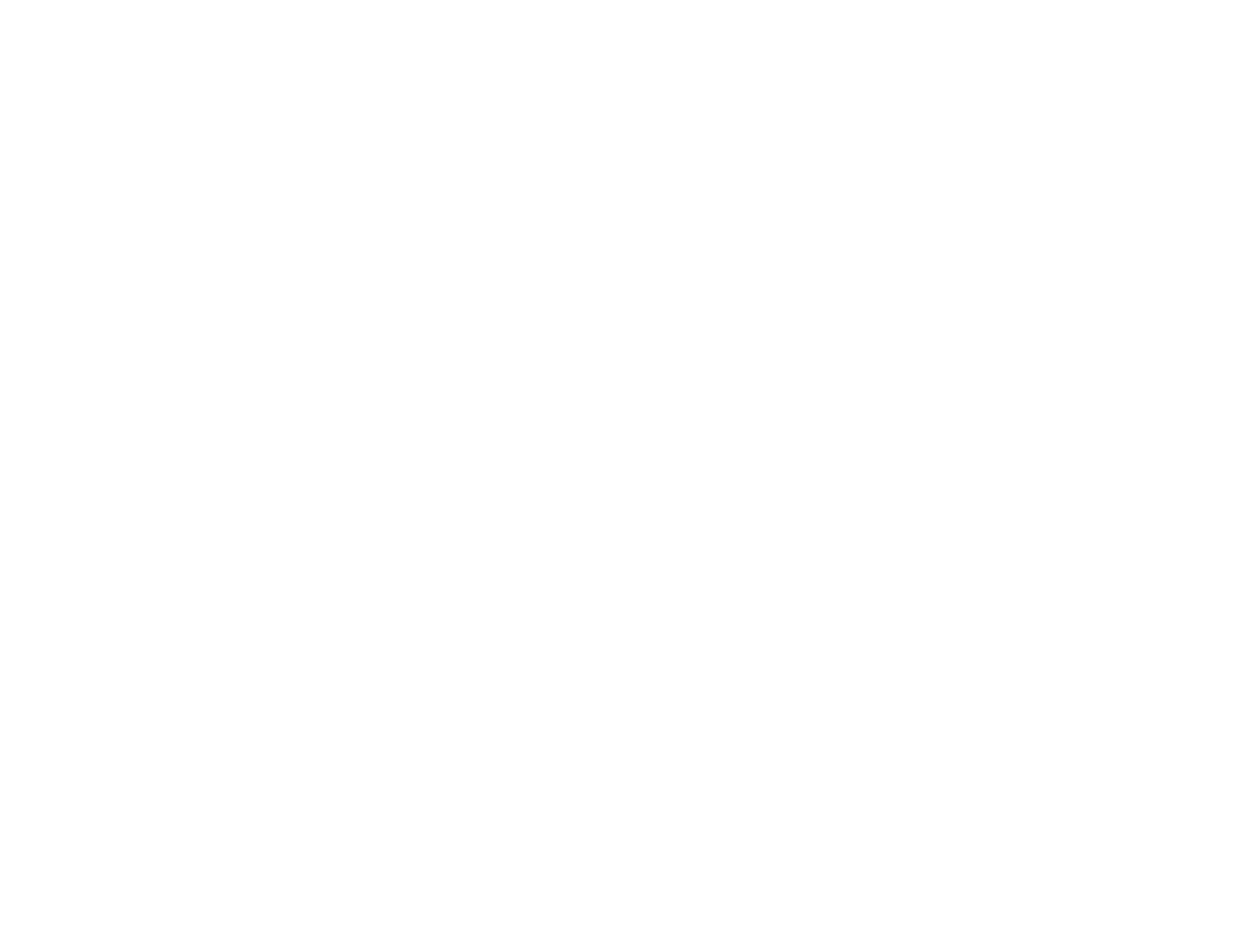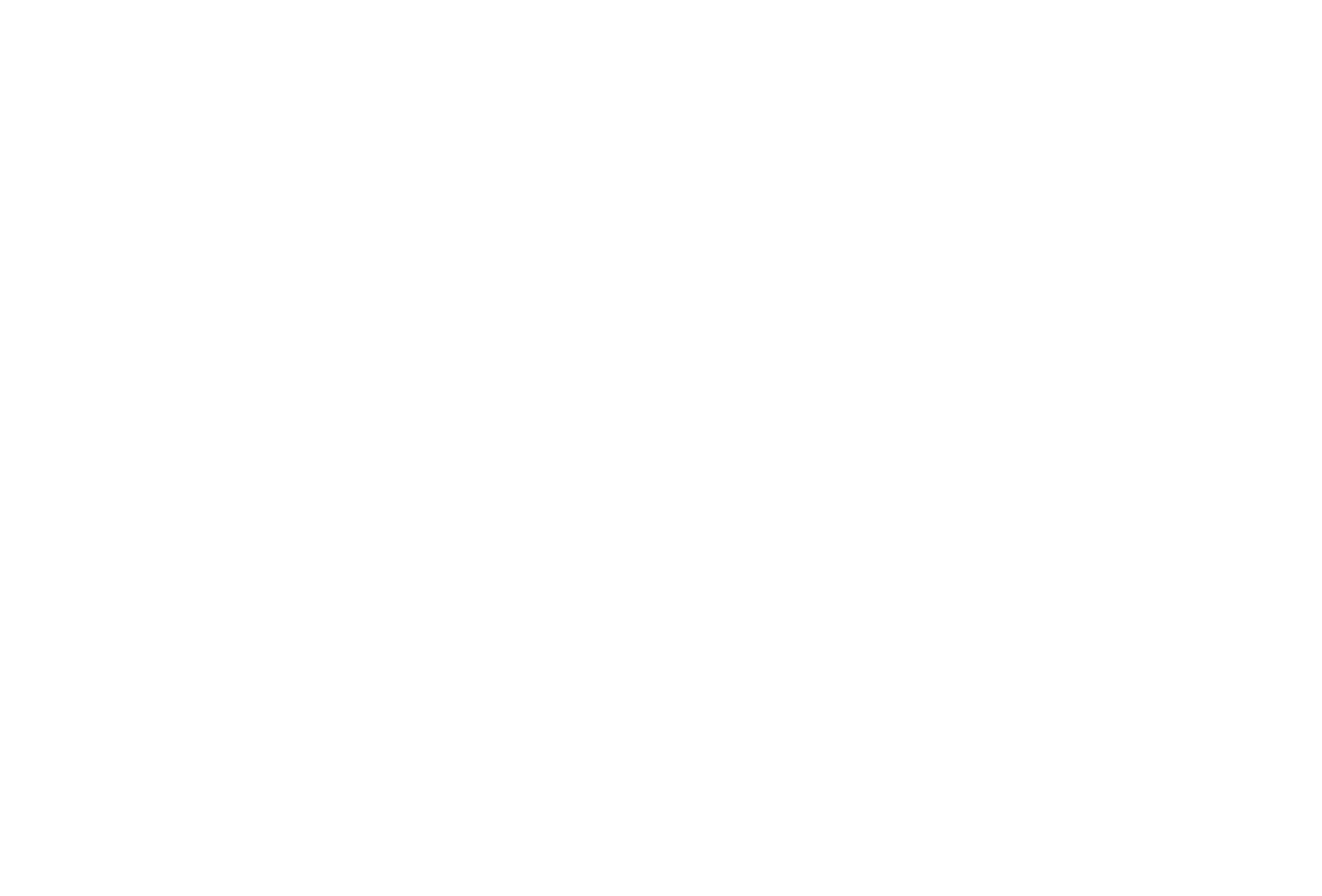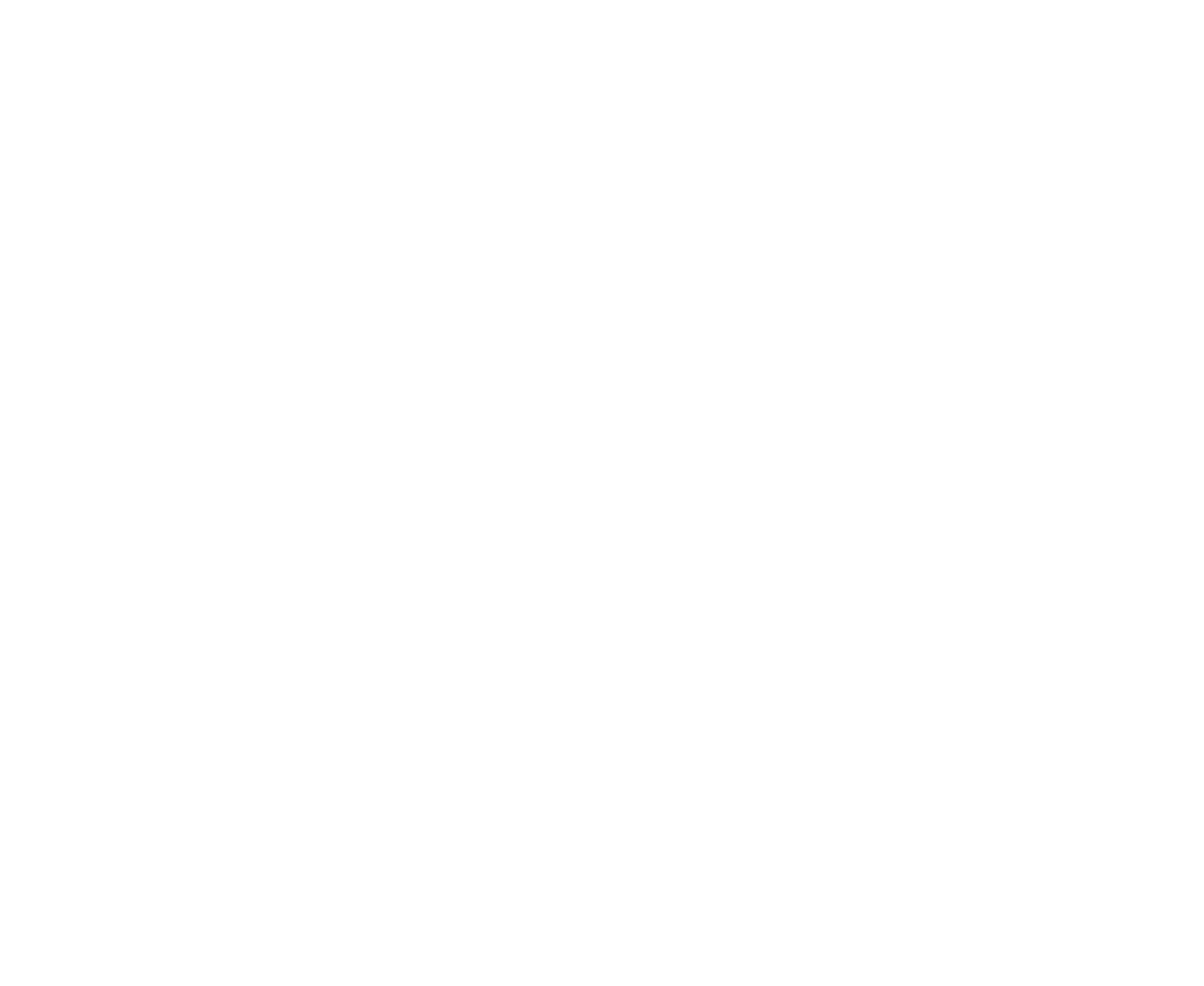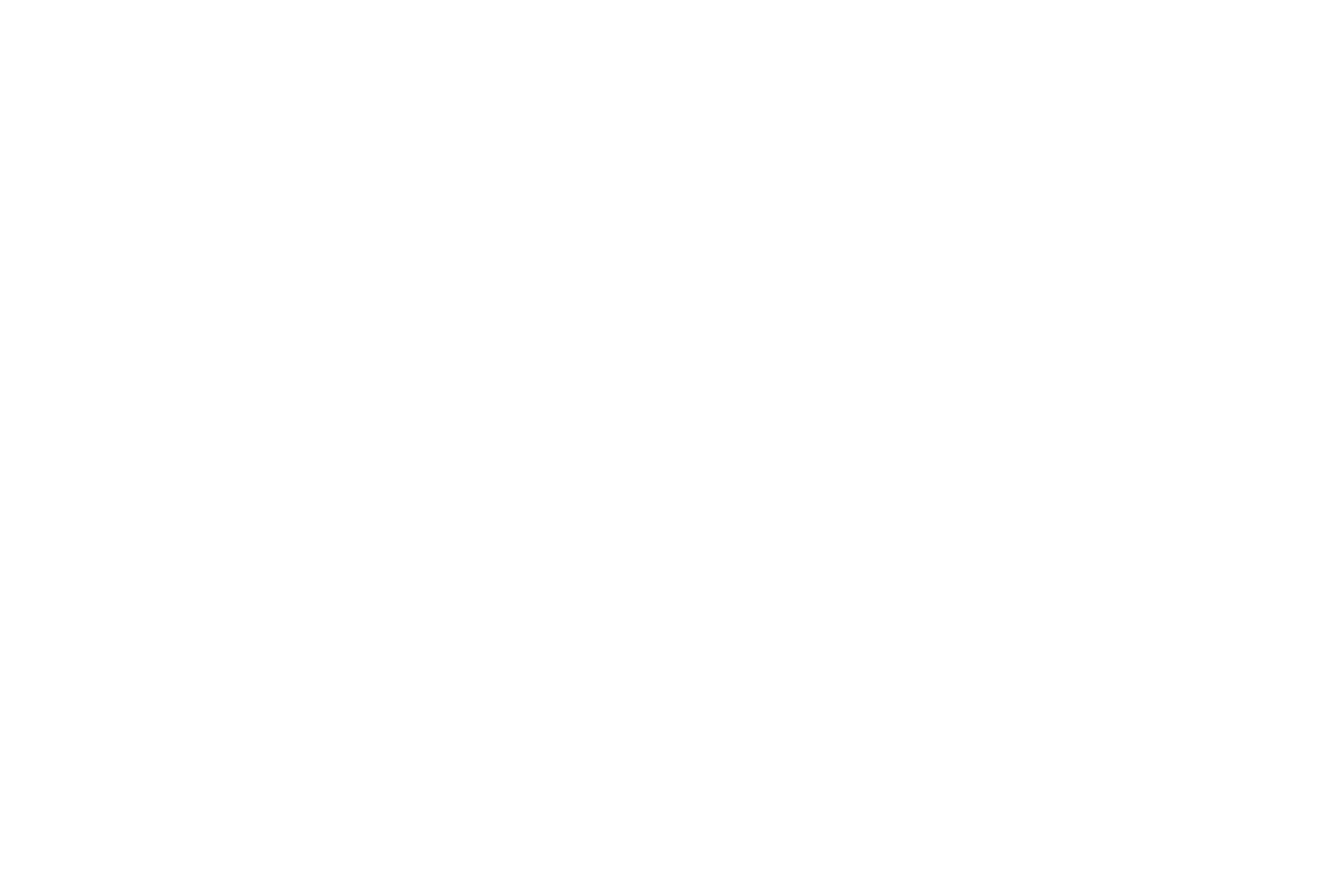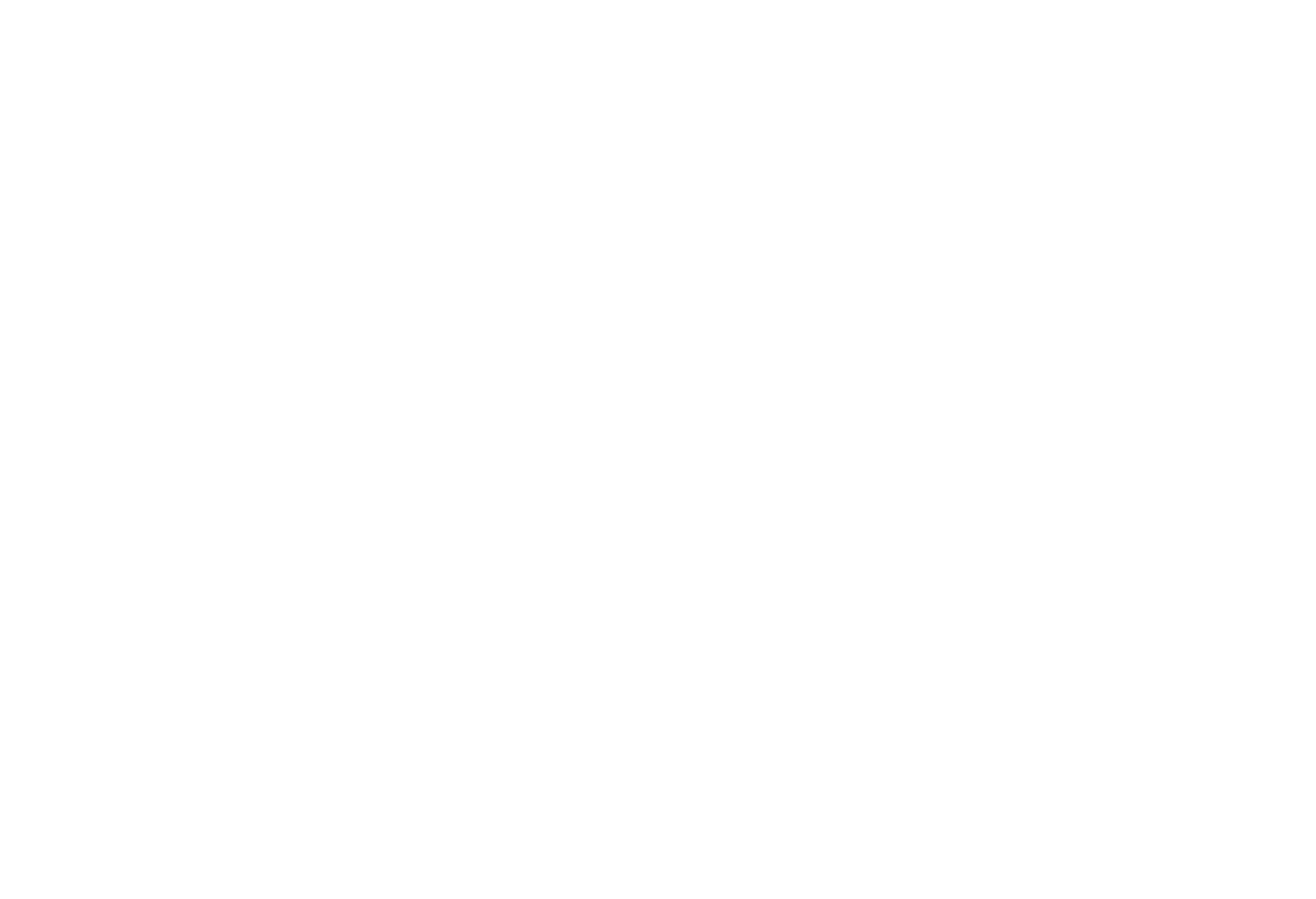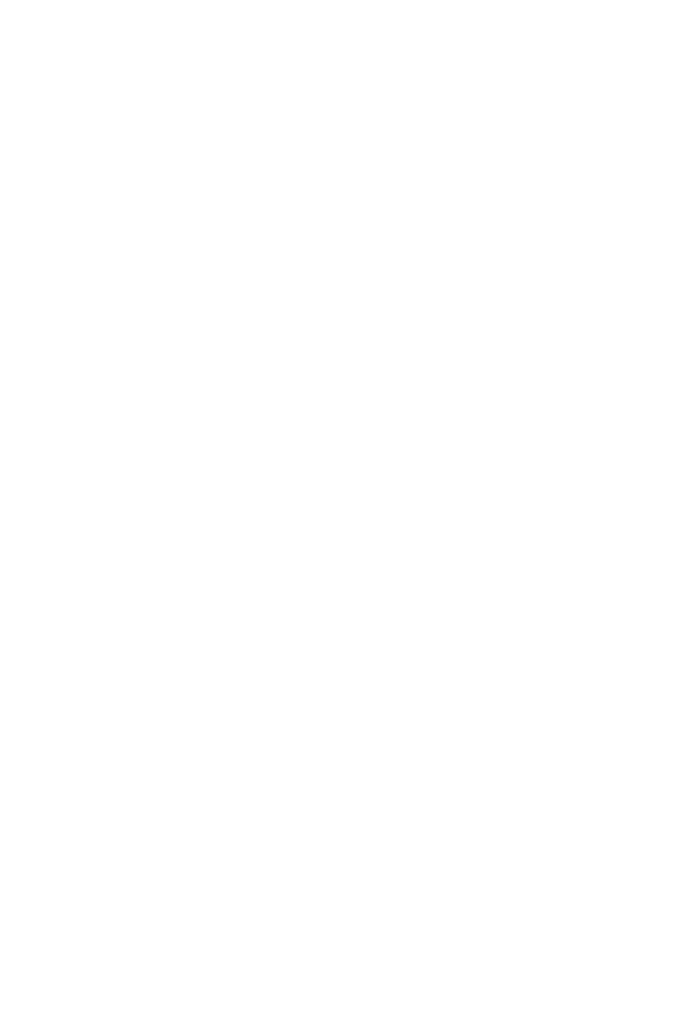Мастера «Мира искусства».
М. Добужинский
М. Добужинский
Вып. 173
«Директ-Медиа»
Москва, 2024
Москва, 2024
Жизнь и творчество
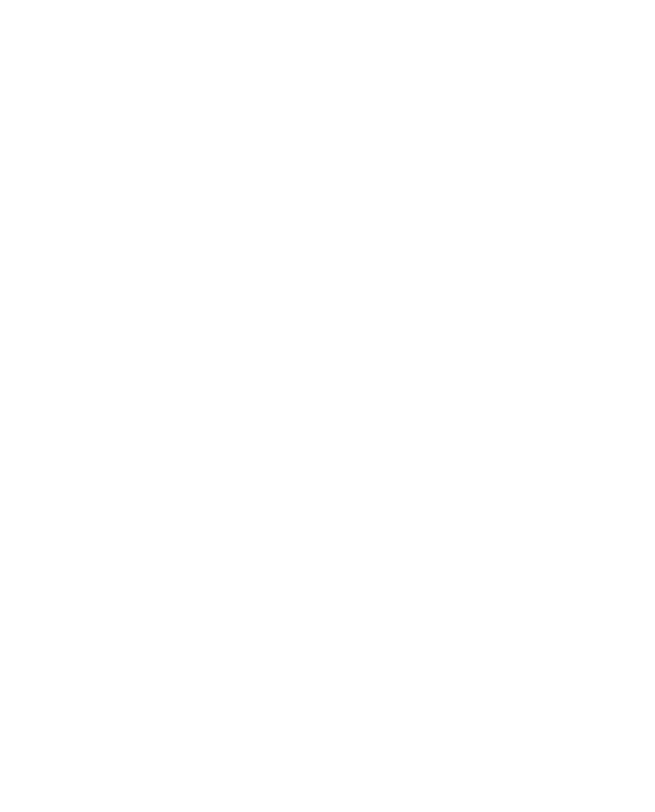
Мстислав Добужинский
Портрет работы Осипа Браза, 1922
Мстислав Валерианович Добужинский родился 2 августа 1875 года в Великом Новгороде в доме своего деда по матери — священника Тимофея Егоровича Софийского. Отец будущего художника был офицером, мать — оперной певицей, а его предки по отцовской линии происходили из древнего литовского рода, владевшего в начале XIX века имением Добужи в Виленской губернии.
Родители Мстислава разошлись, когда он был совсем маленьким. Ребенок остался жить с отцом в Петербурге, в то время как его мать переехала в Тамбовскую губернию и участвовала в воспитании сына лишь дистанционно — с помощью переписки. Регулярные встречи с матерью возобновились только по окончании им гимназии.
Еще в детстве благодаря службе отца мальчик много путешествует. В 1886 году семья переезжает из Петербурга в Кишинев, где Добужинский поступает в гимназию. Впоследствии он закончит учебу в Вильне, городе своих предков.
Когда Валериан Петрович окончательно обосновывается в Вильне, его сын решает переехать в Петербург — город своего детства, долгие годы странствий остававшийся для будущего художника мечтой.
Родители Мстислава разошлись, когда он был совсем маленьким. Ребенок остался жить с отцом в Петербурге, в то время как его мать переехала в Тамбовскую губернию и участвовала в воспитании сына лишь дистанционно — с помощью переписки. Регулярные встречи с матерью возобновились только по окончании им гимназии.
Еще в детстве благодаря службе отца мальчик много путешествует. В 1886 году семья переезжает из Петербурга в Кишинев, где Добужинский поступает в гимназию. Впоследствии он закончит учебу в Вильне, городе своих предков.
Когда Валериан Петрович окончательно обосновывается в Вильне, его сын решает переехать в Петербург — город своего детства, долгие годы странствий остававшийся для будущего художника мечтой.
Поселившись в столице, в 1895 году Мстислав Валерианович поступает на юридический факультет Петербургского университета.
Он делает такой выбор, скорее, «для галочки», уже решив к тому времени заниматься живописью параллельно с получением высшего образования. В семье Добужинских никогда не возникало сомнений в предназначении сына: еще ребенком он проявляет способности к рисованию, неизменно поддерживаемые отцом, а до поступления в гимназию полтора года занимается в школе Общества поощрения художеств.
В студенческие годы Добужинский продолжает занятия живописью в ряде частных школ и мастерских, пишет с натуры, изучает произведения из коллекции Эрмитажа, а также посещает лекции по античной скульптуре и анатомии.
После первого года в университете он держит экзамен в Академию художеств, но не проходит конкурс. Поначалу эта неудача очень ранит молодого человека, но уже через пару лет, в процессе занятий живописью и изучения истории искусства, его вкусы и взгляды на Академию меняются.
У него возникает желание учиться за границей — именно там на рубеже XIX и ХХ веков начинающий художник мог получить новые, свежие знания, не стесненные рамками официальной академической живописи. Отец поддерживает сына в его стремлении.
Он делает такой выбор, скорее, «для галочки», уже решив к тому времени заниматься живописью параллельно с получением высшего образования. В семье Добужинских никогда не возникало сомнений в предназначении сына: еще ребенком он проявляет способности к рисованию, неизменно поддерживаемые отцом, а до поступления в гимназию полтора года занимается в школе Общества поощрения художеств.
В студенческие годы Добужинский продолжает занятия живописью в ряде частных школ и мастерских, пишет с натуры, изучает произведения из коллекции Эрмитажа, а также посещает лекции по античной скульптуре и анатомии.
После первого года в университете он держит экзамен в Академию художеств, но не проходит конкурс. Поначалу эта неудача очень ранит молодого человека, но уже через пару лет, в процессе занятий живописью и изучения истории искусства, его вкусы и взгляды на Академию меняются.
У него возникает желание учиться за границей — именно там на рубеже XIX и ХХ веков начинающий художник мог получить новые, свежие знания, не стесненные рамками официальной академической живописи. Отец поддерживает сына в его стремлении.
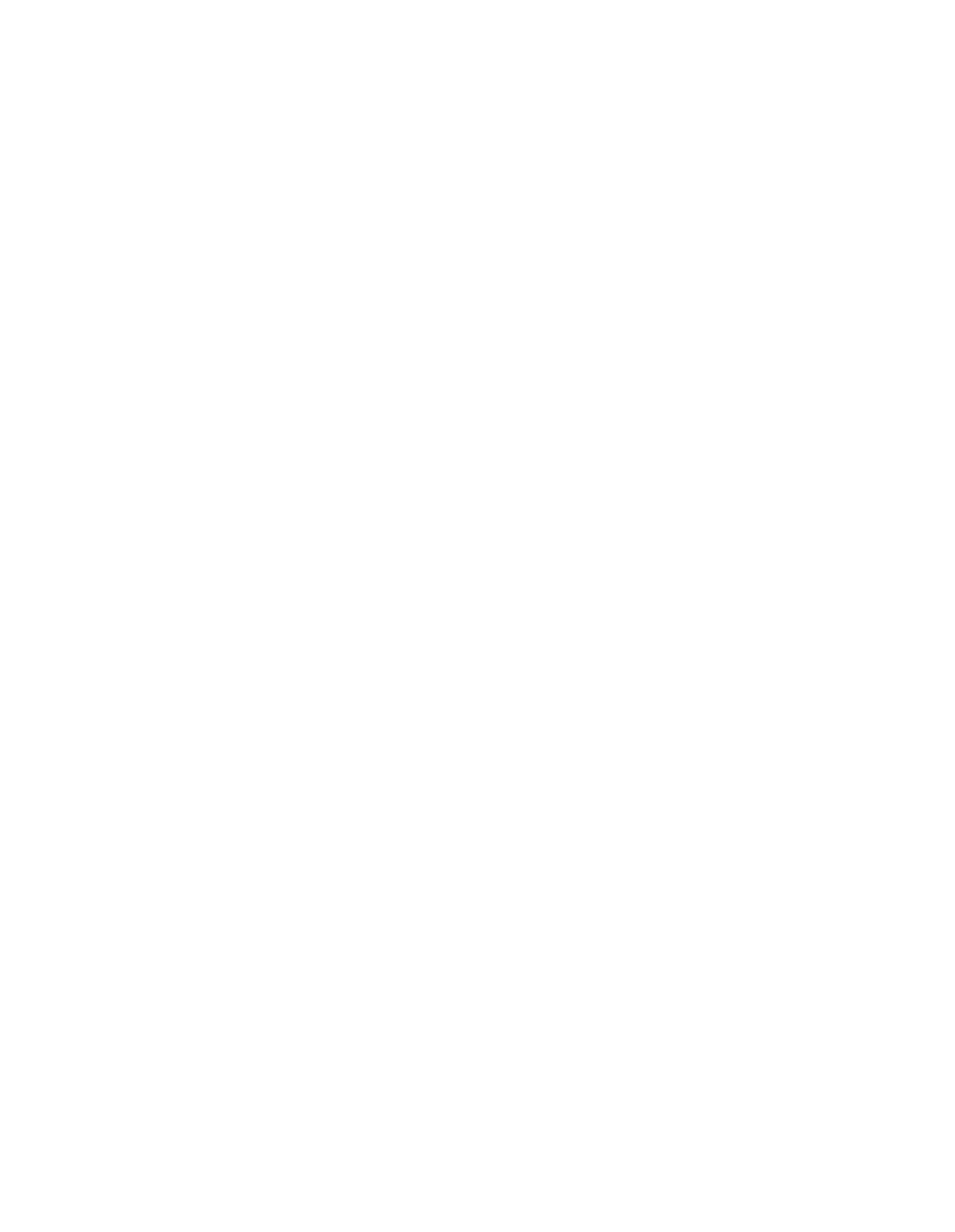
Мстислав Добужинский
Около 1908 г.
Сразу по окончании университета в 1899 году Мстислав Валерианович женится на Елизавете Осиповне Волькенштейн, с которой познакомился в студенческие годы в доме своего дяди.
В день свадьбы молодожены уезжают за границу, где Добужинский впервые получает возможность полностью посвятить себя живописи.
Для занятий он выбирает Мюнхен, бывший в то время наряду с Парижем одним из художественных центров, куда молодые люди приезжали учиться живописи со всей Европы. Там он попеременно занимается в школах Антона Ашбе и Шимона Холлоши. С мастерской последнего Добужинский отправляется летом на юг Венгрии, где тренируется в работе на пленэре.
По возвращении в Мюнхен художник продолжает активно изучать натуру, теорию и историю искусства. В то же время он получает из России номера журнала «Мир искусства», основанного в 1898 году, а также знакомится и сближается с Игорем Грабарем, ставшим впоследствии его наставником и «ментором в искусстве».
В 1901 году Добужинский вместе с женой возвращается в Петербург.
В день свадьбы молодожены уезжают за границу, где Добужинский впервые получает возможность полностью посвятить себя живописи.
Для занятий он выбирает Мюнхен, бывший в то время наряду с Парижем одним из художественных центров, куда молодые люди приезжали учиться живописи со всей Европы. Там он попеременно занимается в школах Антона Ашбе и Шимона Холлоши. С мастерской последнего Добужинский отправляется летом на юг Венгрии, где тренируется в работе на пленэре.
По возвращении в Мюнхен художник продолжает активно изучать натуру, теорию и историю искусства. В то же время он получает из России номера журнала «Мир искусства», основанного в 1898 году, а также знакомится и сближается с Игорем Грабарем, ставшим впоследствии его наставником и «ментором в искусстве».
В 1901 году Добужинский вместе с женой возвращается в Петербург.
Рождение дочери и необходимость содержать семью вынуждают художника поступить на службу по профессии — так, он получает должность младшего делопроизводителя в канцелярии по отчуждению имуществ Министерства путей сообщения. Параллельно со службой, не занимавшей много времени, Мстислав Валерианович продолжает совершенствовать свою технику, вместе с тем сотрудничая с журналом «Шут», куда он отсылает карикатуры на различные бытовые темы.
Благодаря постоянной тренировке и практике графическое мастерство художника стремительно растет, что позволяет Грабарю предложить его работы Сергею Дягилеву и Александру Бенуа для публикаций в «Мире искусства» и «Художественных сокровищах России». Рисунки с энтузиазмом принимают, и вскоре после этого Добужинский становится полноправным участником объединения «Мир искусства».
Со второй половины 1900-х годов художник активно интересуется книжным оформлением.
Благодаря постоянной тренировке и практике графическое мастерство художника стремительно растет, что позволяет Грабарю предложить его работы Сергею Дягилеву и Александру Бенуа для публикаций в «Мире искусства» и «Художественных сокровищах России». Рисунки с энтузиазмом принимают, и вскоре после этого Добужинский становится полноправным участником объединения «Мир искусства».
Со второй половины 1900-х годов художник активно интересуется книжным оформлением.
В то время данное направление переживало пору активного развития, неоценимый вклад в которое был привнесен впоследствии Добужинским. Начиная работу с создания обложек, он постепенно переходит к более сложным задачам, призванным обеспечить общность всех элементов книжного оформления. К этому же периоду относятся его первая значительная работа в портретном жанре (портрет К. А. Сюннерберга) и первая историческая композиция («Провинция. 1830-е годы»).
В 1906 году он приступает к преподавательской деятельности, которой будет заниматься почти всю жизнь.
Именно в короткий период 1900-х годов Добужинский вырастает из никому не известного начинающего художника в крупного мастера, одного из постоянных участников течения, привнесшего принципиально новые тенденции в искусство начала ХХ века.
В 1906 году он приступает к преподавательской деятельности, которой будет заниматься почти всю жизнь.
Именно в короткий период 1900-х годов Добужинский вырастает из никому не известного начинающего художника в крупного мастера, одного из постоянных участников течения, привнесшего принципиально новые тенденции в искусство начала ХХ века.
К 1907 году относится первый опыт Добужинского в качестве театрального художника. Вскоре, в 1909 году, он получает творческое предложение от К. С. Станиславского, что становится началом его долгого и плодотворного сотрудничества с Московским Художественным театром. Первая же постановка — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — является знаковой, поворотной как для театра, так и для самого художника. С этого момента он посвящает все больше своего времени и творческих усилий работе в театре.
После революции, наряду с созданием новых театральных постановок, художник ведет активную преподавательскую деятельность, становится одним из ученых хранителей Эрмитажа, читает лекции, пишет статьи, а также продолжает работать в сфере книжной графики.
После революции, наряду с созданием новых театральных постановок, художник ведет активную преподавательскую деятельность, становится одним из ученых хранителей Эрмитажа, читает лекции, пишет статьи, а также продолжает работать в сфере книжной графики.
В 1924 году по приглашению друга, поэта и полномочного представителя Литовской Республики Ю. К. Балтрушайтиса, он принимает решение временно обосноваться в Литве с целью внести свой вклад в становление национального литовского искусства. Отъезду суждено было стать окончательным — после него Добужинскому уже не довелось вернуться на родину.
С переселением в Литву у Мстислава Валериановича начинается совсем новая жизнь, полная сложностей и разъездов. Добужинский продолжает работать в сфере театрального оформления и книжной графики, не забывая при этом о живописи. В 1926 году он оставляет Каунас ради Парижа, где надеется обрести лучшие условия для творческой работы, однако три года спустя возвращается обратно в Каунас (тогдашнюю литовскую столицу), где становится ведущим театральным художником страны.
С переселением в Литву у Мстислава Валериановича начинается совсем новая жизнь, полная сложностей и разъездов. Добужинский продолжает работать в сфере театрального оформления и книжной графики, не забывая при этом о живописи. В 1926 году он оставляет Каунас ради Парижа, где надеется обрести лучшие условия для творческой работы, однако три года спустя возвращается обратно в Каунас (тогдашнюю литовскую столицу), где становится ведущим театральным художником страны.
В 1939 году мастер вместе с семьей переезжает в США для постановки спектакля с театром Михаила Александровича Чехова.
Разгоревшаяся в Европе война заставляет его остаться. Таким образом, с 1939 года художник живет и работает преимущественно в Америке.
Эта страна не стала ему близкой — при первой возможности он всегда уезжал в Европу, где провел за это время около 6 лет.
До последних дней неустанно трудившийся над новыми постановками и сохранявший творческую активность, Добужинский умер в Нью-Йорке 20 ноября 1957 года в возрасте 82 лет.
Разгоревшаяся в Европе война заставляет его остаться. Таким образом, с 1939 года художник живет и работает преимущественно в Америке.
Эта страна не стала ему близкой — при первой возможности он всегда уезжал в Европу, где провел за это время около 6 лет.
До последних дней неустанно трудившийся над новыми постановками и сохранявший творческую активность, Добужинский умер в Нью-Йорке 20 ноября 1957 года в возрасте 82 лет.
Живопись и графика
Наибольшую известность Добужинский получил благодаря графике и работам в сфере театрально-декорационного искусства. Ему удалось внести существенный вклад в развитие данных областей, напрямую способствуя их эволюции и создав при этом собственный узнаваемый стиль.
Что касается станковой и журнальной графики, здесь художник добился особого успеха в городском пейзаже и формировании в нем индивидуального образа Санкт-Петербурга. Тяга Мстислава Валериановича к романтичному и мистическому позволила ему создать в работах совершенно особенный визуальный облик любимого города, манящий и таинственный в своей отрешенности, загадочности. «Петербург Добужинского» сегодня является таким же нарицательным понятием, как «Петербург Достоевского». В области городского пейзажа подобного не удалось добиться, пожалуй, ни одному другому русскому художнику. Стоит упомянуть, что не последнюю роль в формировании взглядов живописца сыграли его интерес и эмоциональная близость Достоевскому. Выделяя в числе любимых авторов также Гофмана, Андерсена и Диккенса, Мстислав Валерианович обнаруживает в графическом творчестве внутреннее сходство с близкими ему писателями — как и они, художник интересовался внутренней сущностью, потаенной жизнью вещей и городов, сообщающей им сложный, трагический характер.
Что касается станковой и журнальной графики, здесь художник добился особого успеха в городском пейзаже и формировании в нем индивидуального образа Санкт-Петербурга. Тяга Мстислава Валериановича к романтичному и мистическому позволила ему создать в работах совершенно особенный визуальный облик любимого города, манящий и таинственный в своей отрешенности, загадочности. «Петербург Добужинского» сегодня является таким же нарицательным понятием, как «Петербург Достоевского». В области городского пейзажа подобного не удалось добиться, пожалуй, ни одному другому русскому художнику. Стоит упомянуть, что не последнюю роль в формировании взглядов живописца сыграли его интерес и эмоциональная близость Достоевскому. Выделяя в числе любимых авторов также Гофмана, Андерсена и Диккенса, Мстислав Валерианович обнаруживает в графическом творчестве внутреннее сходство с близкими ему писателями — как и они, художник интересовался внутренней сущностью, потаенной жизнью вещей и городов, сообщающей им сложный, трагический характер.
Интерес Добужинского к городскому пейзажу не исчерпывался Петербургом — его кисти принадлежит множество работ, изображающих Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вильно, Голландию, русскую провинцию. В каждом случае, создавая тот или иной образ, художник пытался постичь «душу местности», те характерные особенности, которые придают индивидуальный облик каждому городу, рождают его неповторимую атмосферу.
Несмотря на второстепенное значение, уделявшееся Добужинским изображениям людей, в своих работах, по большей части графических, ему удалось создать целый ряд городских типов, а также несколько портретов, особое место среди которых занимает «Человек в очках» — портрет друга художника, поэта и критика К. А. Сюннерберга.
Из выполненной на заказ журнальной графики особенно выделяются работы для журналов «Жупел» и «Золотое руно». Откликаясь на самые больные темы своего времени, художник создал символические образы, исполненные ужаса перед настоящим и будущим страны.
Добужинского отнюдь не интересовали исключительно отвлеченные, не имевшие отношения к настоящему дню темы — об этом говорит и его карикатура на Николая II, необычайная смелость, на которую решился, помимо него, только В. А. Серов.
Несмотря на второстепенное значение, уделявшееся Добужинским изображениям людей, в своих работах, по большей части графических, ему удалось создать целый ряд городских типов, а также несколько портретов, особое место среди которых занимает «Человек в очках» — портрет друга художника, поэта и критика К. А. Сюннерберга.
Из выполненной на заказ журнальной графики особенно выделяются работы для журналов «Жупел» и «Золотое руно». Откликаясь на самые больные темы своего времени, художник создал символические образы, исполненные ужаса перед настоящим и будущим страны.
Добужинского отнюдь не интересовали исключительно отвлеченные, не имевшие отношения к настоящему дню темы — об этом говорит и его карикатура на Николая II, необычайная смелость, на которую решился, помимо него, только В. А. Серов.
Основными инструментами художника служили прежде всего акварель, пастель и гуашь — большинство его работ создано в сочетании этих графических техник. Лишь изредка Добужинский прибегал к масляной живописи. Значительная часть его ранних живописных работ находится сегодня в собрании Русского музея.
ЦИТАТА
Добужинский писал о Петербурге: «Мне чувствовалось... что именно тут и только тут, в этом в высшей степени строгом и серьезном городе, под этим серым и грустным небом может и должно рождаться и совершаться нечто очень значительное»
Александринский театр, а также Фонтанка у Летнего сада, Чернышев и Банковский мосты были изображены Добужинским по заказу издательства Общины св. Евгении для воспроизведения на художественных открытках. Эти работы еще не несли в себе тех индивидуальных черт, которые обретет городской пейзаж мастера через пару лет, вместе с тем они ознаменовали своим появлением тот основной мотив, к изображению которого Мстислав Валерианович будет неизменно возвращаться в своей станковой и журнальной графике. Городской пейзаж в целом и Петербург в частности — главные темы Добужинского-графика. Отношение к натуре в этих работах еще не отличается кардинально от петербургских видов А. П. Остроумовой-Лебедевой или А. Н. Бенуа.
В течение следующих нескольких лет у художника формируется собственное видение столицы — его интересует не парадный Петербург центральных улиц, но тихий, живущий собственной потаенной жизнью город мелкого чиновничества и простого люда.
«Старый домик» — один из типичных зрелых пейзажей Добужинского, изображающих тихие уголки Петербурга. К 1905 году художник разрабатывает систему основных сюжетов, которые помогают ему в создании образа его «личного» Петербурга. Этими сюжетами становятся в первую очередь темные дворы, нескончаемые деревянные заборы, устремляющиеся ввысь глухие стены многоэтажных домов. Еще один мотив, повторяющийся во многих произведениях Добужинского того времени, — противопоставление старого и нового. Активно развивающийся и застраивающийся новыми домами, Петербург в начале ХХ века менялся стремительно — на местах старых кварталов воздвигались новые, а традиционная, патриархальная жизнь города медленно, но верно уходила в прошлое. Такие тенденции не могли не волновать художника, с неизменной теплотой и любовью вспоминавшего Петербург своего детства.
Эта грусть находила выражение в изображении старых домов, внезапно оказавшихся в совершенно новой обстановке. Зажатые между гигантскими и бездушными современными постройками, они тихо и смиренно доживают свой век.
«Садик в городе» создан в то же время, что и «Старый домик». Эти работы схожи как в сюжетном, так и в атмосферном плане.
Изображенному на переднем плане домику не отказать в трогательности — обнесенный низким заборчиком, с крыльцом и классическими колоннами, примыкающим к нему садом он заключает в себе целый мир. Этот уголок семейственности и теплоты не имеет выхода во внешний мир — скованный плотно обступившими его современными зданиями, закрывающими обзор, солнце и небо, он уподобляется несчастному пожилому человеку, потерявшемуся в мире новых скоростей. Ключ к пониманию подобных работ дают и их названия — «домик», «садик», — к «главным героям» подобных пейзажей Добужинский относится с нежностью и сердечностью.
Изображенному на переднем плане домику не отказать в трогательности — обнесенный низким заборчиком, с крыльцом и классическими колоннами, примыкающим к нему садом он заключает в себе целый мир. Этот уголок семейственности и теплоты не имеет выхода во внешний мир — скованный плотно обступившими его современными зданиями, закрывающими обзор, солнце и небо, он уподобляется несчастному пожилому человеку, потерявшемуся в мире новых скоростей. Ключ к пониманию подобных работ дают и их названия — «домик», «садик», — к «главным героям» подобных пейзажей Добужинский относится с нежностью и сердечностью.
ФАКТ
Один из любимых мотивов художника — противопоставление маленького старого домика и огромной новой постройки («словно куча дров возле мраморного палаццо») — был навеян творчеством Достоевского
«Жупел» — сатирический журнал оппозиционной направленности, созданный в 1905 году и во многом явившийся реакцией на политику царского правительства.
Добужинский выступил в качестве одного из его основателей и редакторов.
Знаменитая «Октябрьская идиллия» появилась уже в первом номере журнала наряду с острыми «высказываниями» других художников — В. А. Серова, И. Я. Билибина, З. И. Гржебина.
Работа Добужинского была основана на натурных зарисовках — Мстислав Валерианович наблюдал за разгоном демонстрации у Технологического института.
За романтическим названием скрывается жуткая картина кровопролития.
Вводя в рисунок повседневные, безобидные по сути объекты — куклу, ботинок, очки, Добужинский добивается ужасающего ощущения реальности произошедшего.
Не изображая конкретного события, он с помощью деталей позволяет зрителю ассоциативно додумывать его — именно этот прием обусловливает необыкновенное по силе эмоциональное воздействие, оказываемое произведением.
Добужинский выступил в качестве одного из его основателей и редакторов.
Знаменитая «Октябрьская идиллия» появилась уже в первом номере журнала наряду с острыми «высказываниями» других художников — В. А. Серова, И. Я. Билибина, З. И. Гржебина.
Работа Добужинского была основана на натурных зарисовках — Мстислав Валерианович наблюдал за разгоном демонстрации у Технологического института.
За романтическим названием скрывается жуткая картина кровопролития.
Вводя в рисунок повседневные, безобидные по сути объекты — куклу, ботинок, очки, Добужинский добивается ужасающего ощущения реальности произошедшего.
Не изображая конкретного события, он с помощью деталей позволяет зрителю ассоциативно додумывать его — именно этот прием обусловливает необыкновенное по силе эмоциональное воздействие, оказываемое произведением.
«Умиротворение» было размещено во втором номере «Жупела» и являлось частью трилогии «Москва. Вступление — Бой — Умиротворение», авторами которой выступили Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере и Добужинский. Все три рисунка исполнены в символическом ключе. Номер журнала посвящался Декабрьскому вооруженному восстанию в Москве.
Размышляя над этой темой, художник прибегает к контрасту, и идиллическая по сюжету композиция (осененный радугой Московский Кремль отражается в водной глади, море спокойно, а по небу плывут облака) с помощью цветового решения превращается в картину ужаса и смерти. Москва уже утонула в море крови, и только Кремль еще высится над его поверхностью.
Необходимо упомянуть, что третий номер «Жупела» стал последним — его тираж был конфискован полицией, а сам журнал — запрещен. Закрытие «Жупела» сопровождалось арестами, что не помешало тому же коллективу в скором времени основать новый журнал «Адская почта».
Размышляя над этой темой, художник прибегает к контрасту, и идиллическая по сюжету композиция (осененный радугой Московский Кремль отражается в водной глади, море спокойно, а по небу плывут облака) с помощью цветового решения превращается в картину ужаса и смерти. Москва уже утонула в море крови, и только Кремль еще высится над его поверхностью.
Необходимо упомянуть, что третий номер «Жупела» стал последним — его тираж был конфискован полицией, а сам журнал — запрещен. Закрытие «Жупела» сопровождалось арестами, что не помешало тому же коллективу в скором времени основать новый журнал «Адская почта».
Впрочем, последний просуществовал недолго и также оказался закрыт после третьего номера.
«Человек в очках» — один из первых и самый известный портрет Добужинского. Сюжетным строем и атмосферой произведение тесно связано с работами мастера периода первой русской революции. К. А. Сюннерберг, поэт, философ и теоретик искусства, был другом Добужинского. В его портрете художник изображает не конкретного человека, но, скорее, собирательный образ русской интеллигенции, уже осознавшей поражение революции. Надежды на преобразования разбиты, будущее не вызывает надежд, и все, что остается, — отгородиться от внешнего мира, занявшись миром внутренним. Подобный ход мыслей был близок многим современникам Добужинского и Сюннерберга, он же и находит выражение в портрете.
«Человек в очках» изображен на фоне окна, большую часть полотна занимает пейзаж. Персонаж огражден от выступающего вдали современного города огромным огородным полем с поленницами дров. Он отгораживается и от зрителя — с помощью очков, за которыми почти не видно лица, и психологически «закрытой» позы. Рядом с поэтом на подоконнике — стопка толстых книг, подчеркивающая его уединенность, погруженность в себя и свои мысли, уход от повседневности. Вся работа построена на контрастах (внутренний мир — внешний мир, тень комнаты — свет пейзажа, яркость поля — серость города и т. д.).
ЦИТАТА
Добужинский — о Сюннерберге: «Он был весь как бы “застегнутый”, даже его очки с голубоватыми стеклами были точно его “щитом”, и, когда он их снимал, представлялся совсем другим человеком»
В 1906 году Добужинский совершил свою первую после обучения в Мюнхене заграничную поездку, в ходе которой он посетил Вильно, Париж и Лондон.
Благодаря этому путешествию и появился ряд пейзажей этих городов.
Изучая Лондон, художник много ездил по его промышленным кварталам и самым отдаленным районам, отличающимся от центральных парадных улиц британской столицы.
Такой подход к выбору натуры был сходен с тем, к которому Мстислав Валерианович привык на родине, — его интересовало прежде всего «истинное лицо города", скрытое за туристическим фасадом.
Огромный монумент, размер которого подчеркивается крошечными фигурками прислонившихся к нему людей, высится над пасмурным и мрачным Лондоном.
Резкий контраст между человеком и его творением вызывает у Добужинского мысли о городе будущего, которые впоследствии отразятся в серии «Городские сны».
Благодаря этому путешествию и появился ряд пейзажей этих городов.
Изучая Лондон, художник много ездил по его промышленным кварталам и самым отдаленным районам, отличающимся от центральных парадных улиц британской столицы.
Такой подход к выбору натуры был сходен с тем, к которому Мстислав Валерианович привык на родине, — его интересовало прежде всего «истинное лицо города", скрытое за туристическим фасадом.
Огромный монумент, размер которого подчеркивается крошечными фигурками прислонившихся к нему людей, высится над пасмурным и мрачным Лондоном.
Резкий контраст между человеком и его творением вызывает у Добужинского мысли о городе будущего, которые впоследствии отразятся в серии «Городские сны».
Данный рисунок вместе с созданным в том же году «Праздником» становится одним из первых «Городских снов» — к этой масштабной серии Добужинский будет неоднократно возвращаться в своем творчестве. На цикл, изображающий фантастический город будущего, застроенный гигантскими домами, мостами, заводами и дымящимися трубами, художника вдохновило посещение Лондона.
В фантазии Добужинского город будущего стремится поглотить человека, превратившегося в крошечного раба созданной его собственными руками системы. Похожие на муравьев человечки, понурив головы бредущие на работу, судорожно веселящиеся толпы горожан, в огромном замкнутом помещении отмечающие некий «праздник», — образы «Городских снов» могут вызвать ужас перед неумолимостью технического прогресса и неизвестностью его результатов.
В фантазии Добужинского город будущего стремится поглотить человека, превратившегося в крошечного раба созданной его собственными руками системы. Похожие на муравьев человечки, понурив головы бредущие на работу, судорожно веселящиеся толпы горожан, в огромном замкнутом помещении отмечающие некий «праздник», — образы «Городских снов» могут вызвать ужас перед неумолимостью технического прогресса и неизвестностью его результатов.
Современный художнику город, пока в основном лишь «гримасничающий», в этих работах превращается в механическое чудовище, активно противостоящее человеку. Подобный взгляд во многом отвечал распространенным на тот момент настроениям. Притом, несмотря на зловещий смысл «Городских снов» и собственную ностальгию по ушедшей эпохе, сам художник оценивал технический прогресс как позитивное явление, способное облегчить жизнь человека.
«Окно парикмахерской» знаменует углубление трагического мотива в изображении Добужинским Петербурга середины 1900-х. Фонарь освещает парикмахерскую. Выставленные в ее окне манекены, по гофмановской традиции, словно оживают, превращаясь в мистические гримасы, более реальные и конкретные, чем идущий по улице прохожий. Работа проникнута отчетливым и зловещим ожиданием несчастья, отражающим само настроение того времени. Подобная трактовка Петербурга делала Добужинского не только актуальным, но и самобытным художником — история искусства не знает другого мастера, чьи образы Северной столицы обладают такой яркой индивидуальностью.
«Омнибус в Вильно» — одна из самых известных работ художника виленского цикла. Она выполнена в смешанной технике и по своему содержанию близка его петербургским городским пейзажам. Большую часть пространства занимает стена, в изображении которой Добужинский накладывал поверх акварели пастель, создавая, таким образом, разнообразие фактуры. В подробностях деталей — стен, окон, покосившихся фонарей — для него отражалась внутренняя жизнь, прошлое, «переживания» города, тесно связанные с прошлым населявших его людей. Уголок Вильно становится поводом, чтобы передать мысль о бренности материи, о том, что человеческие переживания уходят в прошлое так же, как постепенно крошится стена кирпичного дома — подобные умозаключения только подчеркивает реклама гробовщика.
«Провинция. 1830-е годы» — одно из самых значительных произведений художника 1900-х годов. Натурой, вдохновившей его на создание работы, послужила Старая Русса. Изображая провинциальный город николаевской эпохи, Добужинский точно воспроизводит детали, прекрасное знание которых было обусловлено изучением того времени. Вместе с тем картина выполнена в ироническом ключе, подчеркнутом маленькими подробностями и действующими лицами, создающими атмосферу городка. Нарисованная на пожарном столбе рожица и прислонившаяся к нему свинья, задремавший на посту будочник и лужа в центре улицы — замедленная, полусонная жизнь русской провинции поглощает, «размягчает» и разъедает даже государственное, полицейское начало.
Все эти детали Мстислав Валерианович изображает с любовью и нежной иронией — именно так он относился к размеренной и неторопливой русской патриархальной жизни, в начале ХХ века стремительно уходившей в прошлое.
Данное произведение наиболее близко работам художников «Мира искусства». Заинтересованные в изображении прошедших эпох, они не делали акцент на запечатлении конкретных исторических событий, но увлекались самим духом, очарованием прошлого, создавая картины обыденной жизни и исследуя при этом «психологию эпохи». Подобный подход к натуре и времени отличает и николаевскую провинцию Добужинского.
Данное произведение наиболее близко работам художников «Мира искусства». Заинтересованные в изображении прошедших эпох, они не делали акцент на запечатлении конкретных исторических событий, но увлекались самим духом, очарованием прошлого, создавая картины обыденной жизни и исследуя при этом «психологию эпохи». Подобный подход к натуре и времени отличает и николаевскую провинцию Добужинского.
«Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» — эта фраза Свидригайлова из «Преступления и наказания» вдохновила Добужинского на создание «Дьявола». Рисунок был напечатан в московском художественном журнале «Золотое руно» и сразу же вызвал множество споров и толкований — сам художник даже получал письма с просьбой объяснить его смысл. В своем так и не отправленном письме Добужинский лишь перечислил основные понятия, его раскрывающие, — зависимость, власть, несвобода. Таким образом, мастер фактически отказывался буквально расшифровывать собственное произведение, предоставляя каждому зрителю возможность подумать над его содержанием самостоятельно.
Данный рисунок продолжает серию лондонских пейзажей. Художник изображает Тауэрский мост в необычном и непривычном для зрителя ракурсе — знакомый каждому торжественными, величественными очертаниями, у Добужинского он обретает поистине зловещий вид. Точка зрения снизу помогает изобразить массивное, подавляющее своими размерами сооружение. Тяжесть подъемных крыльев, дым проходящих под мостом пароходов, хлещущий ливень создают холодную и неуютную атмосферу индустриального города, поражающего мощью. В этом смысле Лондон сильно отличается от Петербурга — у последнего «зловещее» обнаруживается, скорее, в противостоянии старого и нового, а также в маленьких, заметных лишь художнику деталях. В Лондоне «зловещее» не нужно выискивать — оно напирает со всех сторон тяжестью машин и сооружений.
«Гримасы города» (другое название — «Шарманщик») входит в серию работ «Типы города», тесно связанную с петербургскими пейзажами Добужинского и пришедшую им на смену. В этих рисунках акцент с города как персонажа переключается на населяющих его людей. «Шарманщик» фиксирует и выявляет многоголосие самых различных обитателей Петербурга. На небольшом пространстве рисунка художник изображает траурное шествие, шарманщика с нарядной ручной обезьянкой, толпу зевак и огромную вывеску, рекламирующую какао. Фрагментация, открытая композиция помогают создать ощущение случайно выхваченной из жизни сцены. Гиперболизация натуры и столкновение противоположных по настроению гротескных образов вызывают то ощущение «гримасы», которую показывает город, «перемешивая» в своих недрах возвышенность и коммерцию, печаль и любопытство, траур и дешевое развлечение.
Немного другим настроением проникнута вторая работа цикла — «Безногий». Здесь художник также прибегает к контрастам, открытой композиции и фрагментированным надписям, о смысле которых остается лишь догадываться. Безногий калека проезжает на своей тележке мимо обувного магазина, привлекающего покупателя яркой вывеской. Изображенные на ней ботинки светлым пятном торжествующе возвышаются над понурившим голову инвалидом. Коммерческая сторона городского быта словно принижает человека, в некотором смысле сам Петербург смеется над своим обитателем, при любой возможности напоминая о его физической неполноценности.
Появившаяся вскоре после «Типов города» серия «Типы Петербурга» выполнена совершенно в ином ключе и состоит из большего количества листов. Добужинского привлекали образы обитателей Петербурга, постепенно исчезающих, уходящих в прошлое перед неумолимым лицом прогресса. Такие серии были популярны еще в XVIII — начале XIX века. Подобно другим мирискусникам, увлеченным историей быта, Добужинский воскрешает этот жанр, с интересом подлинного этнографа кропотливо, во всех подробностях изображая питерских торговцев, извозчиков, нянек за их ежедневными занятиями.
Добужинский подробно описал некоторые из городских типов в своих воспоминаниях. Самым колоритным персонажем уходящей эпохи являлась кормилица у господ. Наряженная в квазикрестьянский костюм, увешанная яркими бусами, с кокошником на голове (голубым — если кормила мальчика, розовым — если девочку), она часто сопровождала свою одетую по современной моде барыню. Среди пестрой петербургской толпы такие персонажи были привычны глазу, хоть и выделялись праздничным облачением.
«Поцелуй» — произведение из серии «Городские сны». Оно демонстрирует еще одну грань творчества Добужинского, не ограничивавшегося в своей работе раз и навсегда избранными мотивами и приемами. В данном случае он уходит от принципов «Мира искусства» в сторону новых стилистических поисков, где ему оказываются более близки немецкие экспрессионисты и, в меньшей степени, — новые левые течения.
Из всех листов «Поцелуй» обладает, пожалуй, самым жизнеутверждающим посылом — на фоне падения города в центре композиции изображена влюбленная пара. Слившиеся в поцелуе, обнаженные и прекрасные, они — единственное, что останется на руинах гибнущей цивилизации.
Из всех листов «Поцелуй» обладает, пожалуй, самым жизнеутверждающим посылом — на фоне падения города в центре композиции изображена влюбленная пара. Слившиеся в поцелуе, обнаженные и прекрасные, они — единственное, что останется на руинах гибнущей цивилизации.
В послереволюционные годы Добужинский снова обращается к жанру городского пейзажа.
Данная работа повествует об ужасе повседневной жизни Петрограда времен гражданской войны. Голод, топливный кризис, ряд эпидемий привели к тому, что к началу 1920 года население Северной столицы составило лишь треть от населения 1915 года. Став свидетелем бед, обрушившихся на любимый город, художник с чувством боли отразил это время в своих работах. Изможденные, замерзшие, укутанные во всю имеющуюся у них одежду люди снуют по полуразрушенному городу. Каждый занят скорбным делом — в поисках топлива, прибежища или последнего пристанища для близких они бредут каждый своей дорогой, через замерзшую реку, мимо покосившейся афишной тумбы, напоминающей о развлечениях беззаботного времени.
ЦИТАТА
«Порой город меня до крайности угнетал, иногда же, когда пошлость, казалось, как бы выползала из всех щелей, я его ненавидел и даже переставал замечать его красоту. Вероятно, через это надо было пройти, иначе мое чувство к Петербургу, вернее сказать, любовь была бы неполной. И, конечно, только глядя на окружающее глазами художника, можно было избавиться от гнета обывательских впечатлений и их преодолеть», — писал Добужинский о Санкт-Петербурге
«Интерьер с камином» — одна из поздних работ Добужинского, созданная в 1945 году. К этому периоду относится множество интерьеров художника, довольно близких друг другу в изобразительном плане. В том же году по заказу корпорации финансовых деятелей была исполнена серия из 125 пейзажей и интерьеров в Род-Айленде. Она отображала виллы и поместья американской финансовой элиты, возведенные во второй половине XIX века.
В работе художника над интерьерами прослеживается тот же подход, который во многом характеризовал его городской пейзаж несколькими десятилетиями ранее. Добужинский стремился запечатлеть каждый интерьер как отображение характеров людей, населявших эти комнаты, их ритма, образа жизни, интересов и вкусов.
В работе художника над интерьерами прослеживается тот же подход, который во многом характеризовал его городской пейзаж несколькими десятилетиями ранее. Добужинский стремился запечатлеть каждый интерьер как отображение характеров людей, населявших эти комнаты, их ритма, образа жизни, интересов и вкусов.
ФАКТ
Несмотря на безусловное тяготение к реалистической живописи, на протяжении жизни Добужинский экспериментировал и с новыми течениями: сюрреализмом, футуризмом, беспредметной живописью
Книжная иллюстрация
К началу 1900-х годов искусство книжного оформления в России вступило в новый этап своего развития, большую роль в котором сыграла деятельность «Мира искусства», «открывшего» книгу для художников. Тем временем Добужинский одним из первых пришел к выводу о необходимости связи между собой всех элементов книжного оформления — от обложки и иллюстраций до шрифтов и заставок. Впервые о готовности создать подобную книгу он говорил в 1906 году, желая издать «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина в своем оформлении. Это кардинально отличалось от общепринятой практики — в то время к работе над одним изданием часто привлекали сразу нескольких иллюстраторов, а понимание необходимости единства оформления книги лишь начинало формироваться.
Работу в книжной иллюстрации Добужинский начинает с обложки, поставив целью связать последнюю с содержанием книги и ее графическим ансамблем. Уже в своем первом проекте — обложке к «Политическим сказочкам» Ф. К. Сологуба он добивается подобного единства, неизвестного прежде русскому искусству. Этот подход становится принципиально новым для книжной графики, а сам художник получает множество заказов на обложки.
В это же время Добужинский создает иллюстрации к «Станционному смотрителю». Сознавая задачу единства иллюстраций с замыслом писателя и эмоциональным содержанием произведения, он осуществляет один из первых опытов такого иллюстрирования.
В середине 1907 года художник впервые целиком оформляет книгу — сказку А. М. Ремизова «Морщинка». Два года спустя в журнале «Аполлон» выходит оформленный им рассказ С. А. Ауслендера «Ночной принц».
Добужинский впервые в истории русской книжной графики начала ХХ века решает проблему согласования иллюстраций со шрифтом. Одновременно он становится художественным редактором издательства «Грядущий день» (что являлось также совершенно новой на тот момент должностью).
В 1922 году Добужинский делает иллюстрации к «Белым ночам» — одну из своих самых известных работ, сыгравших большую роль в традиции иллюстрирования произведений Ф. М. Достоевского. Главной целью он ставит не воспроизведение конкретных эпизодов повести, но воссоздание ее духовной атмосферы, для чего прибегает к изображению городского пейзажа.
В это же время Добужинский создает иллюстрации к «Станционному смотрителю». Сознавая задачу единства иллюстраций с замыслом писателя и эмоциональным содержанием произведения, он осуществляет один из первых опытов такого иллюстрирования.
В середине 1907 года художник впервые целиком оформляет книгу — сказку А. М. Ремизова «Морщинка». Два года спустя в журнале «Аполлон» выходит оформленный им рассказ С. А. Ауслендера «Ночной принц».
Добужинский впервые в истории русской книжной графики начала ХХ века решает проблему согласования иллюстраций со шрифтом. Одновременно он становится художественным редактором издательства «Грядущий день» (что являлось также совершенно новой на тот момент должностью).
В 1922 году Добужинский делает иллюстрации к «Белым ночам» — одну из своих самых известных работ, сыгравших большую роль в традиции иллюстрирования произведений Ф. М. Достоевского. Главной целью он ставит не воспроизведение конкретных эпизодов повести, но воссоздание ее духовной атмосферы, для чего прибегает к изображению городского пейзажа.
Вскоре появляются детские книги с иллюстрациями художника («Веселая азбука», «Бармалей», «Примус»). Позже, уже за границей, он оформит также «Трех толстяков» — эти годы характеризовались большим интересом издательств Советского Союза к детской литературе.
В 1936 году Добужинский заканчивает масштабную работу — иллюстрации к «Евгению Онегину». Давно и внимательно изучавший графику Пушкина, он вдохновлялся в своей работе именно ее легкостью.
Благодаря художественной чуткости и множеству нововведений в книжную графику уже к началу 1910-х годов Добужинский вместе с Е. Е. Лансере стал во главе русской школы книжной иллюстрации.
В 1936 году Добужинский заканчивает масштабную работу — иллюстрации к «Евгению Онегину». Давно и внимательно изучавший графику Пушкина, он вдохновлялся в своей работе именно ее легкостью.
Благодаря художественной чуткости и множеству нововведений в книжную графику уже к началу 1910-х годов Добужинский вместе с Е. Е. Лансере стал во главе русской школы книжной иллюстрации.
Иллюстрации к «Станционному смотрителю», одни из ранних в творчестве Добужинского, оказались впервые изданы лишь в 1934 году. Несмотря на отсутствие публикации, рисунки экспонировались в Петербурге и Москве, а потому были хорошо известны художникам. Этот опыт ознаменовал появление новых принципов в отечественной книжной иллюстрации, схожих с теми, что близки также А. Бенуа. Они проявлялись в стремлении связать рисунки с текстом не столько внешним отражением событий, сколько эмоциональным строем, атмосферой, характеризующей произведение.
К началу ХХ века задача создания подобного стилистического, «духовного» единства текста и иллюстраций не была решенной, а потому представлялась Добужинскому особенно важной.
К началу ХХ века задача создания подобного стилистического, «духовного» единства текста и иллюстраций не была решенной, а потому представлялась Добужинскому особенно важной.
Данный рисунок иллюстрирует последнюю часть повести. Событие, описанное у Пушкина одним коротким предложением («Она легла здесь и лежала долго»), художник берет в качестве источника, изображая все то, о чем автор не говорит открыто, и создавая при этом необыкновенную по лиризму и поэтической силе сцену.
ФАКТ
Первая персональная выставка Добужинского состоялась в Вильне в 1907 году. На ней были представлены в первую очередь созданные незадолго до этого виленские пейзажи художника.
Повесть С. А. Ауслендера «Ночной принц» была вдохновлена произведениями Э. Т. А. Гофмана и потому особенно интересна для Добужинского, с детства любившего этого немецкого романтика. Хотя оформление произведения назначалось к публикации отдельным изданием, оно впервые появилось в 1909 году в журнале «Аполлон».
Графическая серия состояла из обложки, четырех иллюстраций и концовки. Рисунок «На мосту» содержит образы Петербурга, подробно уже проработанные художником в его журнальной и станковой графике. В данном случае они подчинены задачам конкретного произведения.
Иллюстрация построена на контрастах черного и белого и композиционно делится на две части. Левая представляет потустороннюю, «темную» силу и причудливо объединяется с правой в изображении снега — белого на черном фоне и черного на белом. Подобные графические приемы позволяют создать сказочную атмосферу повести, где сон смешивается с реальностью, а фантастическое — с обыденным.
Графическая серия состояла из обложки, четырех иллюстраций и концовки. Рисунок «На мосту» содержит образы Петербурга, подробно уже проработанные художником в его журнальной и станковой графике. В данном случае они подчинены задачам конкретного произведения.
Иллюстрация построена на контрастах черного и белого и композиционно делится на две части. Левая представляет потустороннюю, «темную» силу и причудливо объединяется с правой в изображении снега — белого на черном фоне и черного на белом. Подобные графические приемы позволяют создать сказочную атмосферу повести, где сон смешивается с реальностью, а фантастическое — с обыденным.
Оформление «Ночного принца» характеризуется стилистической цельностью, все рисунки построены на ярких контрастах. Добужинский заливает тушью большие плоскости, не только атмосферно, но и визуально создавая таким образом напряженное противостояние света и тьмы. Контрасты используются и в сюжетном плане — так, отражение юноши, предстающего в образе принца, кардинально отличается от изображений обступивших его людей, переданных художником гротескно и зловеще. Художник сознательно выбирает для своих иллюстраций мотивы, характерные для романтической литературы: зеркала и отражения, тени и призраки, ночные трансформации. Все это помогает ему исполнить оформление, дополняющее литературный источник.
В работе над «Ночным принцем» Добужинским был сделан ряд важных открытий, прежде всего — вывод о необходимости связи рисунков со шрифтами (в данном случае эта проблема оказалась решена).
В работе над «Ночным принцем» Добужинским был сделан ряд важных открытий, прежде всего — вывод о необходимости связи рисунков со шрифтами (в данном случае эта проблема оказалась решена).
Кроме того, художник приходит к убежденности, что все книжное оформление должно подчиняться иллюстрациям — главному элементу оформительского ансамбля.
Иллюстрации к «Свинопасу» Х. К. Андерсена были выполнены в 1917 году. Они характеризуются появлением в арсенале Добужинского совершенно новой изобразительной манеры. Подобному развитию способствовал как долгий опыт работы в книжной графике, так и живой интерес к сказкам Андерсена — в мемуарах художник неоднократно упоминал его как одного из своих любимых авторов.
Мягкие и ироничные, эти рисунки проникнуты теплотой и добрым юмором, с которым относился к произведению Добужинский. Выполненные в единой стилистической манере, они в отличие от некоторых других его книжных циклов иллюстрируют лишь описанные в сказке события.
Мягкие и ироничные, эти рисунки проникнуты теплотой и добрым юмором, с которым относился к произведению Добужинский. Выполненные в единой стилистической манере, они в отличие от некоторых других его книжных циклов иллюстрируют лишь описанные в сказке события.
Новшество в отношении графической манеры, в которой выполнены рисунки к «Свинопасу», характеризуется трансформацией линии — она становится более свободной и выразительной.
Художник с большей свободой обращается с формой, не воссоздавая, но лишь намечая ее, благодаря чему она приобретает легкость и остроту. Рисунок освобождается от всего лишнего, загромождающего, уподобляясь самой сказке.
Подобная эволюция была подготовлена упорной работой Добужинского над собственной графической манерой — в те годы он не только выполнял множество натурных зарисовок, но и активно изучал историю европейской и русской графики, прежде всего — творчество А. Дюрера и А. Альтдорфера, а также рисунки А. С. Пушкина. Кроме того, обилие течений и школ, друг за другом появлявшихся в искусстве того времени, стимулировали художника на новые поиски.
Художник с большей свободой обращается с формой, не воссоздавая, но лишь намечая ее, благодаря чему она приобретает легкость и остроту. Рисунок освобождается от всего лишнего, загромождающего, уподобляясь самой сказке.
Подобная эволюция была подготовлена упорной работой Добужинского над собственной графической манерой — в те годы он не только выполнял множество натурных зарисовок, но и активно изучал историю европейской и русской графики, прежде всего — творчество А. Дюрера и А. Альтдорфера, а также рисунки А. С. Пушкина. Кроме того, обилие течений и школ, друг за другом появлявшихся в искусстве того времени, стимулировали художника на новые поиски.
Иллюстрации к «Белым ночам» были выполнены в 1922 году с помощью граттографии — графической техники, изобретенной самим Добужинским. Данное обращение к литературе Достоевского — не первое в творчестве художника, к тому времени он уже иллюстрировал «Преступление и наказание» и делал обложку к «Бедным людям», а также не раз оформлял спектакли по произведениям Федора Михайловича. Тем не менее именно эта работа стала самой успешной и известной из его иллюстративных серий. Такой результат был обоснован прежде всего внутренней близостью Мстислава Валериановича Достоевскому, их общим интересом к атмосфере Петербурга, ее исследованию и изображению. Взгляды на восприятие города у художника и писателя схожи — в произведениях обоих Петербург являлся отдельным персонажем, имеющим собственное лицо и характер.
При создании иллюстраций к «Белым ночам» Добужинский практически игнорировал фабулу и выполнил семнадцать работ, не воспроизводящих действие, но, скорее, вдохновленных духовной атмосферой повести. В их большей части герои и вовсе не фигурируют — изображения исполнены в жанре городского пейзажа, где «Петербург Добужинского» органично переплетается с «Петербургом Достоевского». Разбитые фонари, рваные облака, старые домики, ютящиеся между многоквартирными домами, а также глухие стены современных построек, острыми углами врезающиеся в ночное небо, выступают фоном к маленьким, изломанным фигуркам главных героев. Изображая персонажей повести сбоку и со спины, Добужинский выявляет их психологические образы с помощью поз, жестов и, неизменно, городского пейзажа.
В основе создания одной из самых популярных детских книжек в советской литературе лежит интересная история.
По признанию Чуковского, идея сказки и ее сюжет в немалой степени принадлежали именно Добужинскому.
Художник любил ночной Петербург и нередко прогуливался по безлюдному городу вместе с Чуковским, которого знал по усадьбе Холомки (там в 1920-е годы располагалась база отдыха ленинградского Дома искусств).
Во время одной из таких встреч приятели обнаружили на Петроградской стороне Бармалееву улицу.
Рассуждения об этом названии и последовавшие за ними фантазии и привели к появлению злого африканского разбойника и тут же — к сочинению стихов и рисунков.
Вскоре книга была завершена и готова к печати.
В иллюстрациях к «Бармалею» Добужинский отходит от своего привычного принципа симметричности.
Рисунки не ограничены рамками, а буквы словно скачут по листу, помогая созданию озорной и шутливой атмосферы сказки.
По признанию Чуковского, идея сказки и ее сюжет в немалой степени принадлежали именно Добужинскому.
Художник любил ночной Петербург и нередко прогуливался по безлюдному городу вместе с Чуковским, которого знал по усадьбе Холомки (там в 1920-е годы располагалась база отдыха ленинградского Дома искусств).
Во время одной из таких встреч приятели обнаружили на Петроградской стороне Бармалееву улицу.
Рассуждения об этом названии и последовавшие за ними фантазии и привели к появлению злого африканского разбойника и тут же — к сочинению стихов и рисунков.
Вскоре книга была завершена и готова к печати.
В иллюстрациях к «Бармалею» Добужинский отходит от своего привычного принципа симметричности.
Рисунки не ограничены рамками, а буквы словно скачут по листу, помогая созданию озорной и шутливой атмосферы сказки.
Добужинский получил заказ на выполнение иллюстраций к сказке Ю. Олеши «Три толстяка» в конце 1927 года, уже находясь за границей. В Париже он тяжело переживал свою невостребованность в области книжной графики — его привлекали к работе прежде всего как театрального художника. Для этой книги Мстислав Валерианович выполнил двадцать пять иллюстраций и обложку. Составлявшие, как и другие его произведения, единый стилистический ансамбль, они были написаны преимущественно акварелью.
Иллюстрации к «Трем толстякам» по своей манере напоминают другие сказочные рисунки Добужинского послереволюционных лет, например «Свинопаса» и «Бармалея».
Интересно, как отличается техника, используемая художником в оформлении сказочных сюжетов, от рисунков, иллюстрирующих драматические произведения.
Рисунки к «Трем толстякам» изобилуют ироничными и шаржированными образами, а главным связующим звеном выступает атмосфера борьбы и подвига, жизнерадостно побеждающего зло.
Интересно, что даже в такие мотивы, казалось бы, бесконечно далекие от зловещей романтики петербургских рисунков Добужинского, ему удается вплести свои излюбленные темы. Нетрудно представить, как выглядел бы представленный выше сюжет в его графике 1900-х годов. Теперь же изображение куклы, протыкаемой саблями, лишено жуткого настроения, которым характеризуются ранние работы мастера.
Интересно, как отличается техника, используемая художником в оформлении сказочных сюжетов, от рисунков, иллюстрирующих драматические произведения.
Рисунки к «Трем толстякам» изобилуют ироничными и шаржированными образами, а главным связующим звеном выступает атмосфера борьбы и подвига, жизнерадостно побеждающего зло.
Интересно, что даже в такие мотивы, казалось бы, бесконечно далекие от зловещей романтики петербургских рисунков Добужинского, ему удается вплести свои излюбленные темы. Нетрудно представить, как выглядел бы представленный выше сюжет в его графике 1900-х годов. Теперь же изображение куклы, протыкаемой саблями, лишено жуткого настроения, которым характеризуются ранние работы мастера.
Художник создал графическое оформление «Евгения Онегина» в 1936 году. Тогда же оно впервые появилось в английском издании романа. Спустя три года, дополненная тринадцатью новыми иллюстрациями и обложкой, эта графическая серия оказалась напечатана в парижском издании.
Добужинский был прекрасно знаком с творчеством А. С. Пушкина, не только являвшегося одним из любимых писателей Мстислава Валериановича, но также интересовавшего его своей графикой. В 1910-е годы художник активно изучал и копировал рисунки Пушкина, а впоследствии неоднократно читал о них лекции. Иллюстрации к «Евгению Онегину» во многом были вдохновлены именно графикой поэта. Несмотря на использование в них различных графических манер (граттографии, рисунка пером, силуэта), большинство изображений ассоциируется с легким и быстрым пушкинским пером.
Добужинский был прекрасно знаком с творчеством А. С. Пушкина, не только являвшегося одним из любимых писателей Мстислава Валериановича, но также интересовавшего его своей графикой. В 1910-е годы художник активно изучал и копировал рисунки Пушкина, а впоследствии неоднократно читал о них лекции. Иллюстрации к «Евгению Онегину» во многом были вдохновлены именно графикой поэта. Несмотря на использование в них различных графических манер (граттографии, рисунка пером, силуэта), большинство изображений ассоциируется с легким и быстрым пушкинским пером.
Работая над «Евгением Онегиным», Добужинский выполнил масштабный по замыслу проект. Все изображения были разделены на несколько категорий в зависимости от их расположения в тексте. Так, заставки представляли место действия, концовки — отвлеченные поэтические и философские образы Пушкина. Передаче сюжета служили текстовые и страничные иллюстрации. Соответственно, вся серия являла собой подробный и разносторонний ансамбль, отображающий не только сюжет романа как таковой, но и его лирическую и образную составляющие.
Театр
Работа Добужинского в качестве театрального художника началась в 1907 году с постановки двух спектаклей — пастурели Адама де ла Аля «Игра о Робене и Марион» для петербургского Старинного театра и пьесы А. М. Ремизова «Бесовское действо» для Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
В это время русская театральная декорация претерпевала принципиальные изменения — ее роль, до второй половины XIX века остававшаяся второстепенной, стремительно возрастала. Прежде оформление спектакля осуществлялось с помощью типовых декораций и костюмов, использовавшихся от постановки к постановке. Новое поколение художников, пришедших в театр, видело необходимость подчинения сценического оформления каждой конкретной пьесе, ее настроению, духу эпохи. Они взяли в свои руки оформление всей постановки: от декораций, бутафории и реквизита до костюмов. Таким образом, из простого декоратора-оформителя художник постепенно превратился в соавтора режиссера.
В это время русская театральная декорация претерпевала принципиальные изменения — ее роль, до второй половины XIX века остававшаяся второстепенной, стремительно возрастала. Прежде оформление спектакля осуществлялось с помощью типовых декораций и костюмов, использовавшихся от постановки к постановке. Новое поколение художников, пришедших в театр, видело необходимость подчинения сценического оформления каждой конкретной пьесе, ее настроению, духу эпохи. Они взяли в свои руки оформление всей постановки: от декораций, бутафории и реквизита до костюмов. Таким образом, из простого декоратора-оформителя художник постепенно превратился в соавтора режиссера.
Подобным принципом руководствовался Добужинский в своих первых постановках, имевших успех и принесших ему известность и признание в качестве театрального художника. Вскоре, в 1909 году, он начал сотрудничество с театром К. С. Станиславского. Декорации для «Месяца в деревне» И. С. Тургенева представляли собой типичный интерьер дворянской усадьбы 1840-х годов, в то же время их решение было непосредственно сопряжено с эмоциональным содержанием пьесы. В нерасторжимой связи с декорациями находились и костюмы (работа над ними велась параллельно с декорациями с целью согласовать цветовые сочетания тех и других). Во время премьеры спектакля произошло невиданное — при поднятии занавеса публика устроила овацию не режиссеру, не актерам, а художнику. Зрители и критика с восторгом приняли спектакль, его драматургическую и оформительскую цельность. «Месяц в деревне» стал настоящим триумфом Добужинского.
Другая знаковая работа художника относится к 1913 году — в этот раз руководство МХТ выбрало для постановки пьесу «Николай Ставрогин», созданную В. И. Немировичем-Данченко на основе «Бесов» Ф. М. Достоевского. Сценическое оформление спектакля было решено в совершенно другом русле и построено на контрастах, асимметрии, лаконизме, призванных подчеркнуть психологизм действия. Эмоциональная острота произведения позволила художнику показать себя с новой стороны: трагическое по накалу оформление кардинально отличалось от меланхоличности тургеневской пьесы.
За девять лет работы в МХТ Добужинский оформил двенадцать постановок, явившихся принципиально новым этапом в развитии этого театра. Мстислав Валерианович считал, что художник должен служить пьесе, таким образом его работа заключалась не в демонстрации мастерства живописца, но в гармоничном вплетении художественного оформления в драматическое действо.
Дальнейшая деятельность Добужинского в театре развивала и углубляла принципы, выработанные им в стенах МХТ и заключавшиеся в выявлении сущности пьесы посредством ее оформления.
Другая знаковая работа художника относится к 1913 году — в этот раз руководство МХТ выбрало для постановки пьесу «Николай Ставрогин», созданную В. И. Немировичем-Данченко на основе «Бесов» Ф. М. Достоевского. Сценическое оформление спектакля было решено в совершенно другом русле и построено на контрастах, асимметрии, лаконизме, призванных подчеркнуть психологизм действия. Эмоциональная острота произведения позволила художнику показать себя с новой стороны: трагическое по накалу оформление кардинально отличалось от меланхоличности тургеневской пьесы.
За девять лет работы в МХТ Добужинский оформил двенадцать постановок, явившихся принципиально новым этапом в развитии этого театра. Мстислав Валерианович считал, что художник должен служить пьесе, таким образом его работа заключалась не в демонстрации мастерства живописца, но в гармоничном вплетении художественного оформления в драматическое действо.
Дальнейшая деятельность Добужинского в театре развивала и углубляла принципы, выработанные им в стенах МХТ и заключавшиеся в выявлении сущности пьесы посредством ее оформления.
Постановка «Игры о Робене и Марион» предназначалась для открывшегося в 1907 году в Петербурге Старинного театра. Основатель театра, режиссер, историк и теоретик театра Н. Евреинов, ставил перед собой цель воплотить на сцене всю историю европейского театра с Античности до Мольера, показав, таким образом, его эволюцию и сущность в ту или иную эпоху. Создатели в своих спектаклях стремились полностью реставрировать особенности театра разных времен, от декораций до актерской игры. Добужинскому было предложено подготовить декорации, костюмы и бутафорию для постановки пастурели средневекового автора Адама де ла Аля. Проведя архивные исследования, художник тщательно изучил эпоху. Источником для сценического оформления стала французская миниатюра XIII—XIV веков, ее дух воплотился в росписи декораций и костюмах актеров.
В декорациях, изображающих залу рыцарского замка, Добужинский не имитировал, но символически обозначил место действия, чему способствовала в том числе бутафория — низкие домики и деревья, расписной рыцарский конь на колесиках.
ФАКТ
Именно в Старинном театре впервые в России была решена проблема единства оформления театральной постановки: авторы уделяли внимание ансамблю и в полной мере использовали все доступные театрально-художественные средства
Вторая театральная работа Добужинского — оформление пьесы А. М. Ремизова «Бесовское действо» — выполнена в совершенно ином ключе.
Поставленная в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, изначально пьеса должна была быть срежиссирована В. Э. Мейерхольдом. Вследствие ряда событий в конечном итоге постановкой целиком занимались Ф. Ф. Комиссаржевский и Добужинский. Аллегорический характер пьесы позволил художнику обратиться в качестве источника вдохновения к русскому лубку, деревянной игрушке и иконе, интересовавших его с юности. Сцену сделали двухъярусной, в нижнем ярусе была представлена преисподняя с «адским огнем» и чертями. В прологе по центру сцены находился белый камень, символизировавший распутье и являвшийся единственным предметом бутафории. Во время первого и второго актов на сцене возникали древнерусский храм и пещера змия. Довольно лаконичный по сравнению с предыдущей постановкой, новый спектакль лишь закрепил положение Добужинского в театральном мире как одного из самых ярких и самобытных художников-оформителей. С этого момента он начал получать все больше предложений подобной работы.
«Петрушка» — одноактная пьеса П. П. Потемкина, поставленная в театре-клубе «Лукоморье» В. Э. Мейерхольдом в 1908 году. Ее политическую направленность подчеркивает декорация, пронизанная аллегорией и гротеском.
Узкая улица, на которой расположены многочисленные магазины и лавочки, окружена высокими и непроницаемыми, похожими на тюремные городскими стенами, дополненными забором. В изображении художник смешивает сказку и реальность, иронию и открытую издевку. Вывеска аптеки висит вверх ногами, а венчает пейзаж крендель, в свою очередь увенчанный короной.
Подобное решение декорации не было схожим ни с традиционным театральным оформлением, ни с творениями мирискусников, работавших в одно время с Добужинским на этом поприще. Лаконизм и острота декорации стали тем новым, подлинно индивидуальным, что оказалось внесено Мстиславом Валериановичем в сценическое оформление тех лет.
Подобное решение декорации не было схожим ни с традиционным театральным оформлением, ни с творениями мирискусников, работавших в одно время с Добужинским на этом поприще. Лаконизм и острота декорации стали тем новым, подлинно индивидуальным, что оказалось внесено Мстиславом Валериановичем в сценическое оформление тех лет.
ЦИТАТА
Добужинский — о премьере «Бесовского действа»: «Пьеса вызвала скандал. Публика проглядела все, что в пьесе было существенно, ее мистику и слезы сквозь смех. Публика возмутилась „издевательством над ней и балаганом“, но мы с Ремизовым храбро выходили на аплодисменты части зрителей среди шума, свиста и негодующих выкриков. Нам было только забавно это первое театральное крещение»
К оформлению «Месяца в деревне» художник применял двойственный подход. С одной стороны, он стремился сохранить в декорациях визуальный образ эпохи 1840-х годов, с другой — чувствовал себя свободно в ее интерпретации, в первую очередь связывая оформление спектакля с эмоциональной составляющей каждого акта и всей пьесы в целом.
Как и в своих иллюстрациях, Добужинский ставил целью передать в декорациях дух эпохи, произведения — именно это обусловило триумф спектакля, ставшего важной вехой в развитии как Московского Художественного театра, так и русского театра вообще.
Внешне строгие и классические, не похожие на его ранние работы, эти симметрично построенные декорации служили задачам, поставленным перед игравшими пьесу актерами, передавали ощущение внутренней напряженности при внешнем спокойствии.
Как и в своих иллюстрациях, Добужинский ставил целью передать в декорациях дух эпохи, произведения — именно это обусловило триумф спектакля, ставшего важной вехой в развитии как Московского Художественного театра, так и русского театра вообще.
Внешне строгие и классические, не похожие на его ранние работы, эти симметрично построенные декорации служили задачам, поставленным перед игравшими пьесу актерами, передавали ощущение внутренней напряженности при внешнем спокойствии.
Работа над эскизом декорации III действия велась особенно долго. Это место в пьесе требовало отразить ощущение свежего ветра, ворвавшегося в тихую, размеренную жизнь усадьбы. После множества предварительных вариантов Добужинскому удалось найти подходящий: он создал уютную гостиную, наполненную мягкими округлыми предметами. Вместе с тем сочетание красного, зеленого и белого цветов с вплетением некоторых холодных пятен призвано создать впечатление напряжения, смутной тревоги.
Помимо собственно декораций Добужинский создавал также картины на их основе, изображавшие сцены из спектаклей. Впоследствии такие работы экспонировались во время персональных выставок художника. Данное произведение демонстрирует сцену на фоне декорации I и V актов. В нем запечатлена лишь левая половина декорации, представлявшей панорамный интерьер синей залы — просторного помещения, заполненного солнечным светом, отражающимся от зеркального паркета. В интерьер Добужинский поместил две огромные картины, «подсмотренные» им в загородном доме своей матери — «Кораблекрушение» с гравюры Жозефа Верне и «Извержение Везувия». Изображенные на них бурные драматические сцены составляют яркий контраст с самим интерьером, симметричным и уравновешенным. Расставляя подобные акценты в пространстве декораций, художник сделал малозаметные намеки на само действие, накаленное, но внешне невозмутимое, сотканное из тончайших нюансов и едва уловимых деталей.
При создании костюмов для «Месяца в деревне» Добужинский руководствовался теми же принципами, что и при исполнении декораций. Изначально он тщательно изучил костюмы данной эпохи по архивным материалам. Работая над эскизами, художник постепенно уходил от одежды, с документальной точностью соответствовавшей эпохе, в сторону ее близости персонажу, раскрытия его характера и эмоций. В то же время цвета костюмов неразрывно связаны с колористической схемой декораций, образуя с ними общую гамму либо выделяясь на их фоне яркими акцентами.
Важно отметить, что работа художника над спектаклем не ограничивалась костюмами и декорациями — по его эскизам были выполнены вся мебель и прочие мельчайшие детали обстановки, включая цвета и узоры обивки и тканей. Подобная «дотошность» и послужила созданию гармоничного ансамбля, «жившего» на сцене вместе с актерами.
Важно отметить, что работа художника над спектаклем не ограничивалась костюмами и декорациями — по его эскизам были выполнены вся мебель и прочие мельчайшие детали обстановки, включая цвета и узоры обивки и тканей. Подобная «дотошность» и послужила созданию гармоничного ансамбля, «жившего» на сцене вместе с актерами.
Декорационное решение «Николая Ставрогина» в корне отличается от «Месяца в деревне». Вместо классических, скрупулезно прописанных интерьеров, изобилующих множеством подробностей, в декорации «Скворечников» перед зрителем предстает максимально лаконичный, лишенный деталей интерьер, призванный сосредоточить внимание на трагедии двух главных персонажей — Ставрогина и Лизы. Использовавшаяся в тургеневском спектакле система намеков сменяется «оголенным» психологизмом, скрытая напряженность выплескивается на сцену. Красные отблески пожара вдали рифмуются с платком девушки, а ее ярко-зеленое платье выступает единственным колористическим акцентом.
Минимумом изобразительных средств, сочетая лаконизм обстановки с несколькими яркими деталями, Добужинский создает атмосферу максимального эмоционального накала, присущую произведению Достоевского.
Минимумом изобразительных средств, сочетая лаконизм обстановки с несколькими яркими деталями, Добужинский создает атмосферу максимального эмоционального накала, присущую произведению Достоевского.
ЦИТАТА
«В этой постановке я впервые как бы нашел себя», — говорил Добужинский о «Бесах»
«Всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице» — так описано место действия непосредственно в «Бесах» Ф. М. Достоевского.
Сценическое пространство декорации решено в коричневато-желтых тонах и пересечено по диагонали лестницей, на которой и происходит основное действие. Именно в этой обстановке совершает самоубийство Николай Ставрогин. Холодное и сырое помещение, шаткость крутой лестницы призваны заострить эмоциональное восприятие свершившегося несчастья.
Сценическое пространство декорации решено в коричневато-желтых тонах и пересечено по диагонали лестницей, на которой и происходит основное действие. Именно в этой обстановке совершает самоубийство Николай Ставрогин. Холодное и сырое помещение, шаткость крутой лестницы призваны заострить эмоциональное восприятие свершившегося несчастья.
Костюм Гамадриады (древнегреческой нимфы деревьев) был выполнен Добужинским для Русского балета Дягилева в 1914 году. Подготовка балета «Мидас» к постановке шла фактически в экстренном режиме и составила всего двенадцать дней. Сам художник писал Станиславскому из Парижа, что костюмы принесли всего за 15 минут до начала спектакля. Премьера балета состоялась 2 июня в парижской Гранд-опера. Несмотря на множество заминок и осложнений («Все сделано плоховато и многого не оказалось»), балет прошел под аплодисменты публики. В письме жене Добужинский признавался: «Все, кто говорил со мной, говорят, было красиво и свежо и сей балет приятен».
Постановка оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» стала первым крупным творением художника после переезда в Литву. В процессе подготовки Добужинскому предоставили все необходимые условия, чтобы сделать работу так, как виделось нужным ему самому. Как признавался Мстислав Валерианович в то время, это был очень редкий шанс, выпавший мастеру за всю жизнь не более двух-трех раз.
Сам художник остался очень доволен спектаклем — в декорации он вложил всю любовь к далекому теперь Петербургу, кропотливо выписывая решетку Летнего сада и Зимнюю канавку. Во время премьеры впервые за историю Каунасского государственного драматического театра восторженная публика устроила овации художнику. Положительных отзывов работа удостоилась и от прессы — новости о постановке вышли далеко за пределы города.
Сам художник остался очень доволен спектаклем — в декорации он вложил всю любовь к далекому теперь Петербургу, кропотливо выписывая решетку Летнего сада и Зимнюю канавку. Во время премьеры впервые за историю Каунасского государственного драматического театра восторженная публика устроила овации художнику. Положительных отзывов работа удостоилась и от прессы — новости о постановке вышли далеко за пределы города.
Все исследователи литовского искусства сходятся во мнении, что «Пиковая дама» оказала важнейшее влияние на развитие Каунасского государственного драматического театра, открыв для литовцев новые возможности театрального оформления.
Оформление постановки «Ревизора» 1933 года было осуществлено Добужинским в Каунасском театре. Ранее художник уже обращался к этому материалу в драматическом театре Дюссельдорфа. Режиссером, как и в предыдущий раз, выступил Михаил Чехов, неоднократно сотрудничавший с Добужинским. В данном случае классическая гоголевская пьеса была трактована, скорее, как мистическое, а не сатирическое произведение. В основе замысла режиссера и художника — исследование не внешнего, но внутреннего, рефлексия над затхлой провинциальной жизнью, «хлестаковщиной» как явлением. В русле идеи выполнен и эскиз занавеса с изображением провинциального пейзажа. Канавы и забор на переднем плане, виднеющиеся вдалеке городские постройки — все изображенные художником предметы кривые, скособоченные, словно в хмельной пляске.
Перекошена колокольня, сломан фонарь, а в самом центре композиции высится над провинциальным городом обнесенная мощным забором, но такая же зыбкая в своих деформированных очертаниях тюрьма.
ФАКТ
На протяжении пятидесяти лет работы в театрально-декорационном искусстве Добужинский оформил почти двести постановок для театров двадцати стран мира
«Пиковая дама» — один из самых популярных сюжетов в декорационном творчестве Добужинского, ему не раз доводилось оформлять это произведение в различных театрах. Из главных работ следует выделить спектакль в Каунасском государственном драматическом театре в 1925 году, постановку 1931 года в Брюсселе, эскизы декораций и костюмов для кинофильма, снятого в Париже в 1937 году. Вместе с тем оперу словно преследует злой рок. Так, ставшее при жизни художника легендарным оформление 1925 года сгорело во время пожара. Та же участь постигла уже готовые к премьере декорации для лондонского оперного театра «Сэдлерс-Уэллс» — все находившиеся в его мастерской эскизы и декорации были уничтожены огнем.
Данное произведение является, по-видимому, вариантом новой декорации для Каунасского государственного драматического театра. Премьера возобновленной оперы состоялась в январе 1934 года.
Данное произведение является, по-видимому, вариантом новой декорации для Каунасского государственного драматического театра. Премьера возобновленной оперы состоялась в январе 1934 года.
В работе над постановкой Мстислав Валерианович существенно преобразовал первоначальные эскизы. Неизменным осталось отношение к натуре — любимый Добужинским Петербург и тут предстает в своей торжественной красоте, не лишенной при этом трагичности.
Опера «Сорочинская ярмарка» была поставлена в нью-йоркской «New Opera Co». Режиссером спектакля снова выступил Михаил Чехов. Интересно, что после переезда Добужинского в Нью-Йорк в судьбе художника принял большое участие Сергей Рахманинов — именно он познакомил Мстислава Валериановича с директором Метрополитен-опера, от которого тот и получил свои первые в США заказы на осуществление сценического оформления.
Рахманинов присутствовал и на представлении «Сорочинской ярмарки», ее премьера состоялась в ноябре 1942 года. Как вспоминал Добужинский, увидев яркие и нарядные декорации, изображавшие малороссийскую деревню, композитор не мог сдержаться и воскликнул: «Вот бы дачку тут мне построить!»
Рахманинов присутствовал и на представлении «Сорочинской ярмарки», ее премьера состоялась в ноябре 1942 года. Как вспоминал Добужинский, увидев яркие и нарядные декорации, изображавшие малороссийскую деревню, композитор не мог сдержаться и воскликнул: «Вот бы дачку тут мне построить!»
Действительно, эта пышная, праздничная декорация со всей полнотой передавала атмосферу народного гулянья, веселой деревенской жизни, идиллической близости русского народа природе. Не в последнюю очередь благодаря яркому национальному колориту постановка вызвала живой интерес у американской публики.
Находясь во время Второй мировой войны в США, вдалеке от родного города, переживавшего блокаду, Добужинский создал несколько произведений на тему трагедии своего народа. Главные среди них — балет «Русский солдат» в постановке Михаила Фокина на музыку Сергея Прокофьева и проект балета «Ленинградская симфония», вдохновленного «Ленинградской симфонией» Шостаковича, для которого художник не только выполнил эскизы декораций, но и написал либретто совместно с хореографом Леонидом Мясиным. Серию эскизов гуашью и акварелью отличают простота и строгость исполнения, возвышенная лаконичность. Дополненные самостоятельными акварелями на ту же тему, изображавшими противотанковые заграждения на фоне силуэтов Исаакиевского и Петропавловского соборов, они воплощают суровый и трагический образ города, не сгибающегося перед лицом войны.
ФАКТ
Творчество Добужинского оказало заметное влияние на развитие английского театра — ряд английских искусствоведов и критиков сходятся во мнении, что работа художника над оформлением «Щелкунчика» стала важным этапом в развитии театрально-декоративного искусства Великобритании
«Русский солдат» стал первой совместной работой Добужинского с Фокиным после «Мидаса». Балет состоял из пролога и пяти картин, изображавших видения смертельно раненного солдата, переживавшего перед гибелью свое прошлое. При создании балета Фокин и Добужинский визуально отталкивались от павловской эпохи. Постановка изобиловала яркими образами — Рай в виде своеобразной «крестьянской богини», Смерть, крестьянки в нарядных, квазирусских костюмах, жнецы, косари… Построенный на теме смерти и ее неизбежной победе, этот балет, несмотря на налет историзма, неизбежно ассоциировался у зрителя с происходящими в тот момент событиями, что повлекло традицию устраивать после каждого спектакля овации в честь Советской армии.
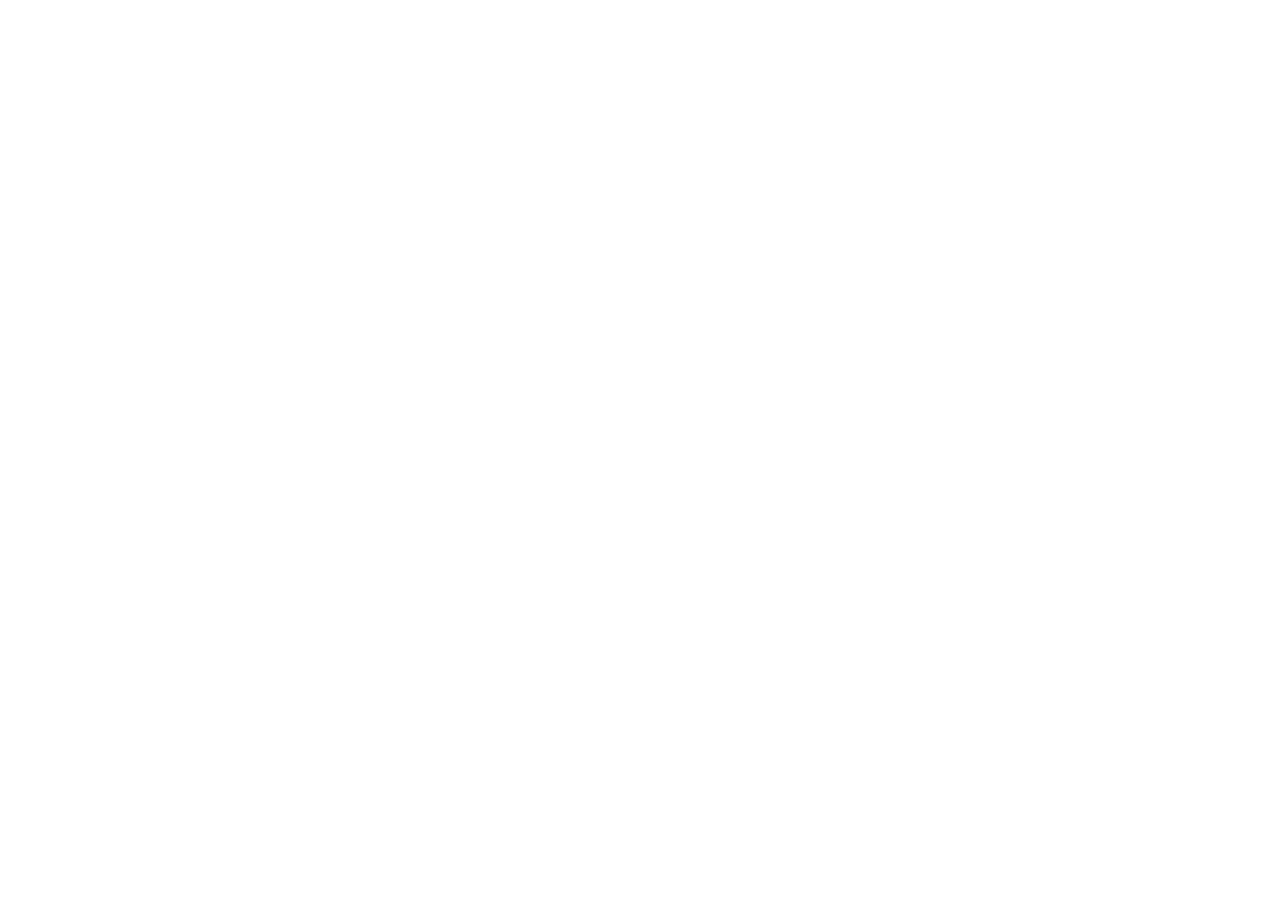
Друзья, а давайте проверим насколько хорошо вы знаете творчество Мстислава Добужинского? Для этого вам нужно ответить на 15 простых вопросов. Поехали?
| Начать тест |
В каком городе родился Добужинский?
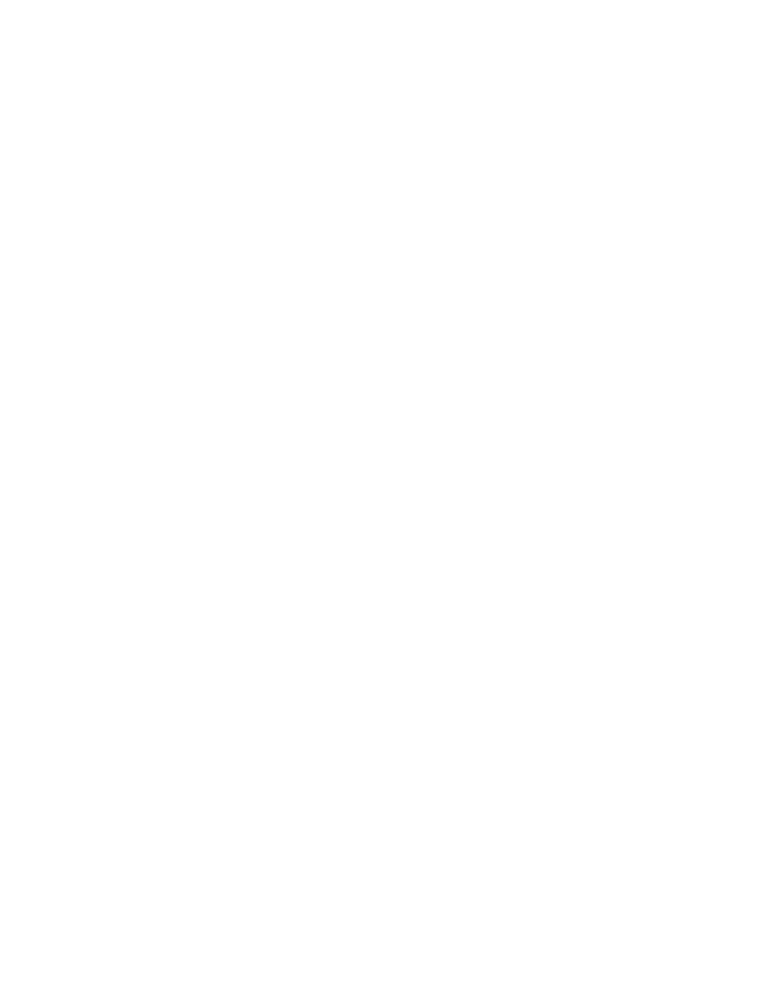
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
У кого из этих мастеров проходил обучение Добужинский?
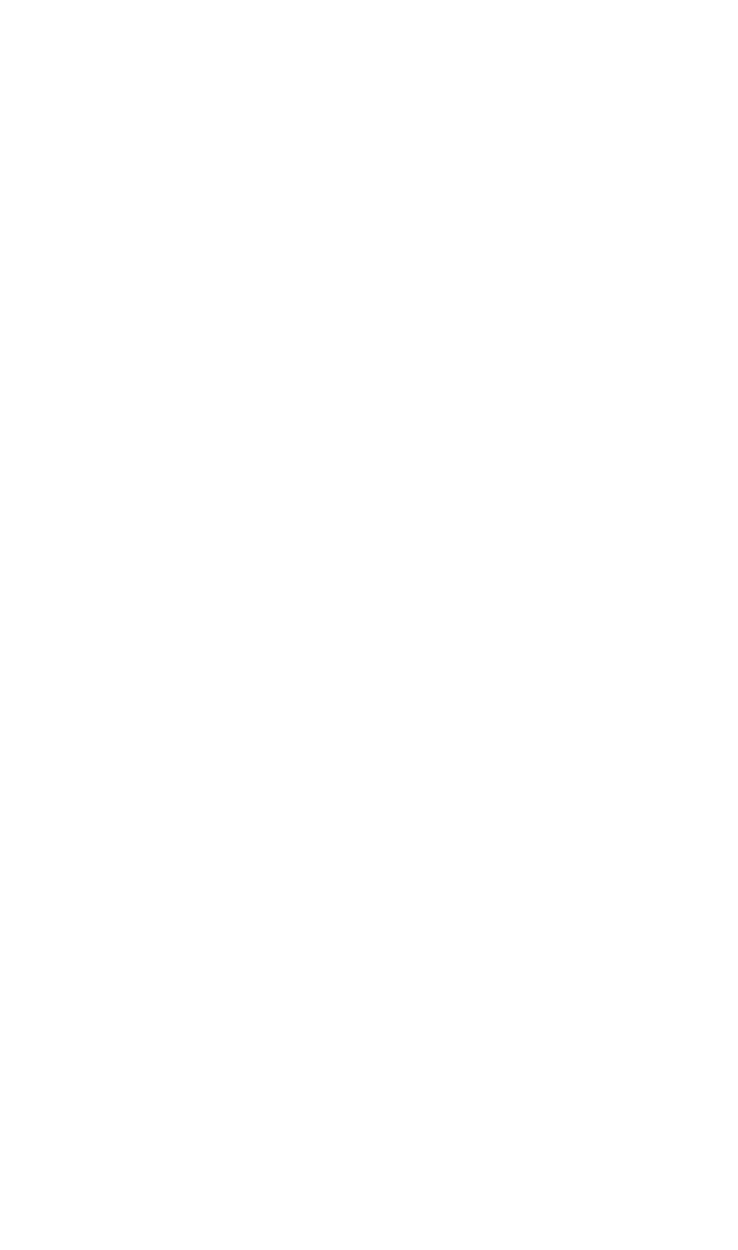
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто автор этого изображения?
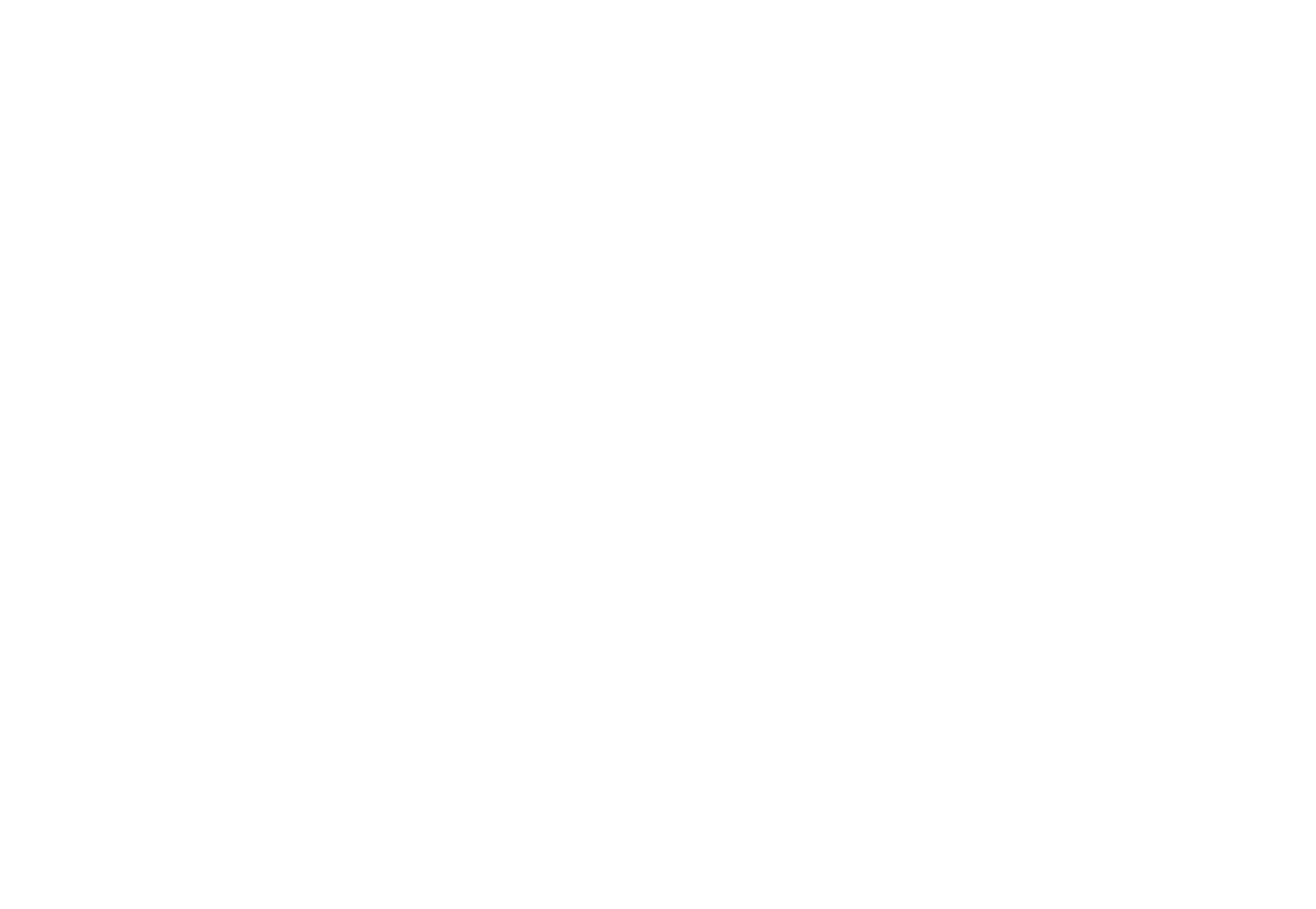
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как Добужинский назвал это полотно?
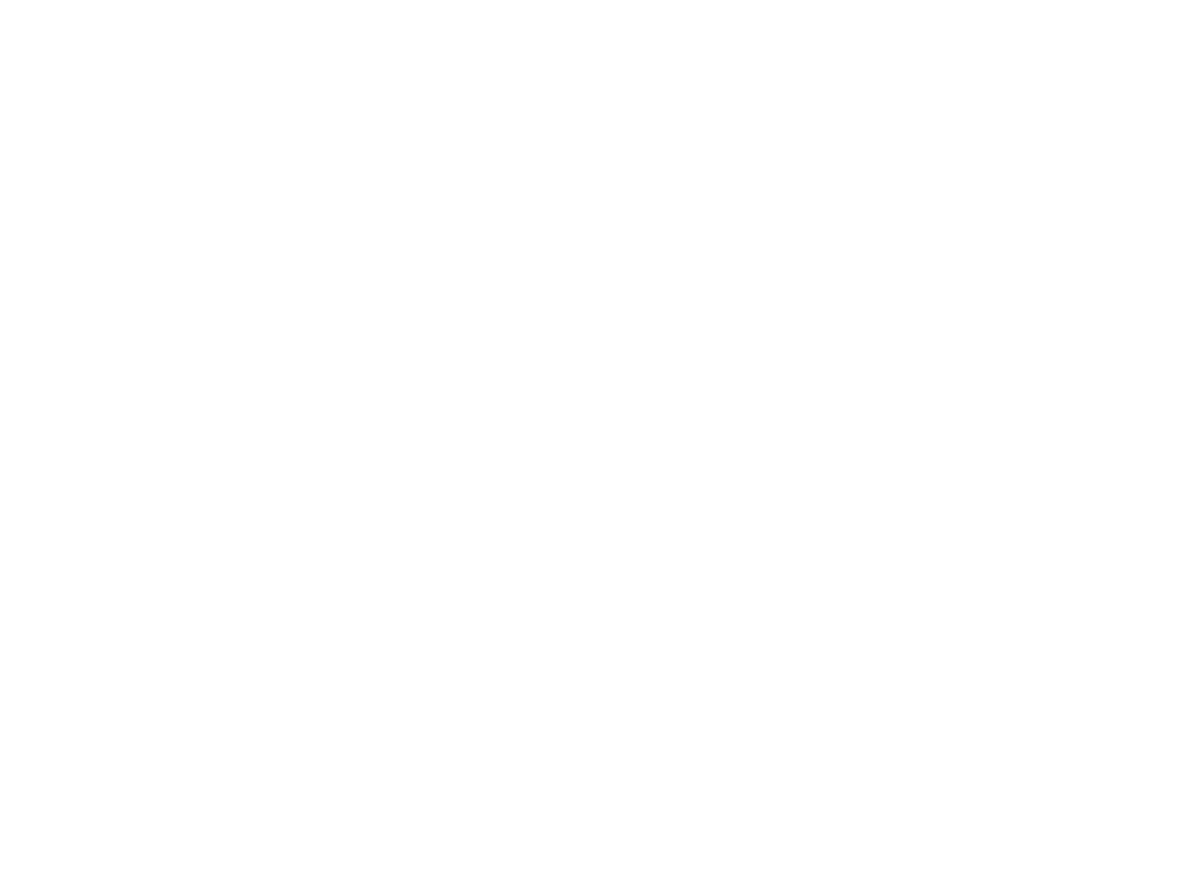
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Какой город изобразил Добужинский в этой работе?
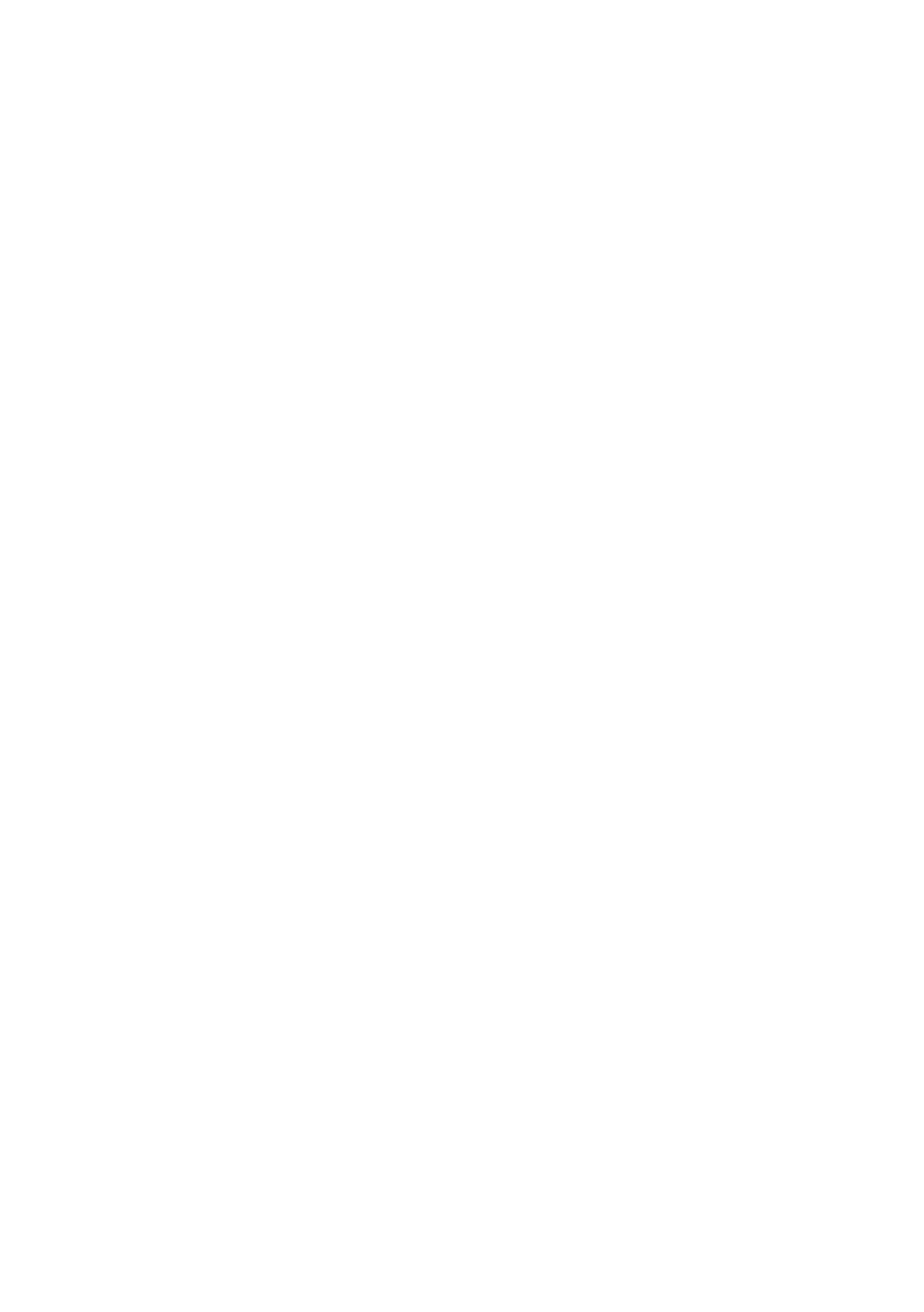
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Какое высшее образование получил Добужинский?
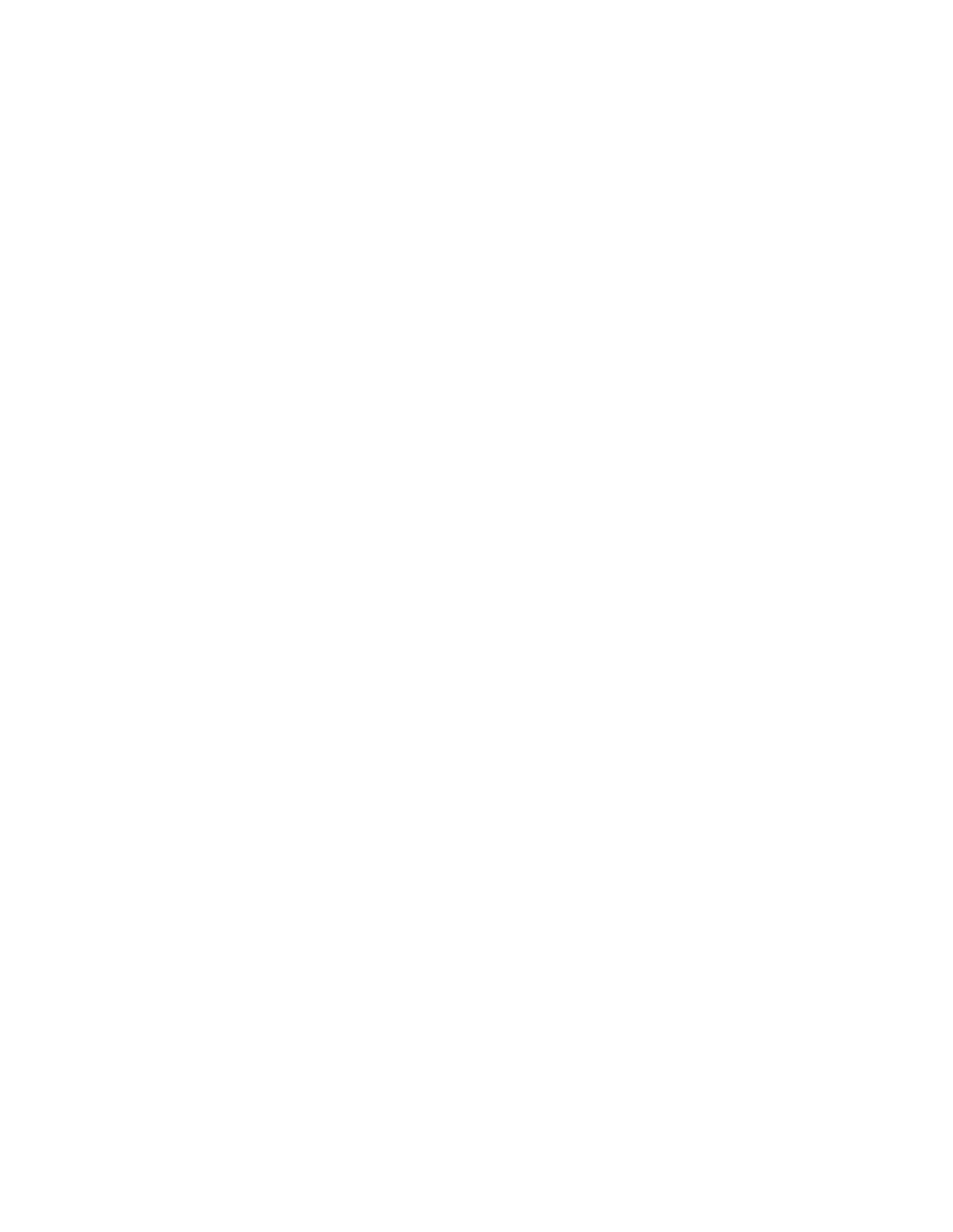
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
К какому виду искусства относится это произведение Добужинского?
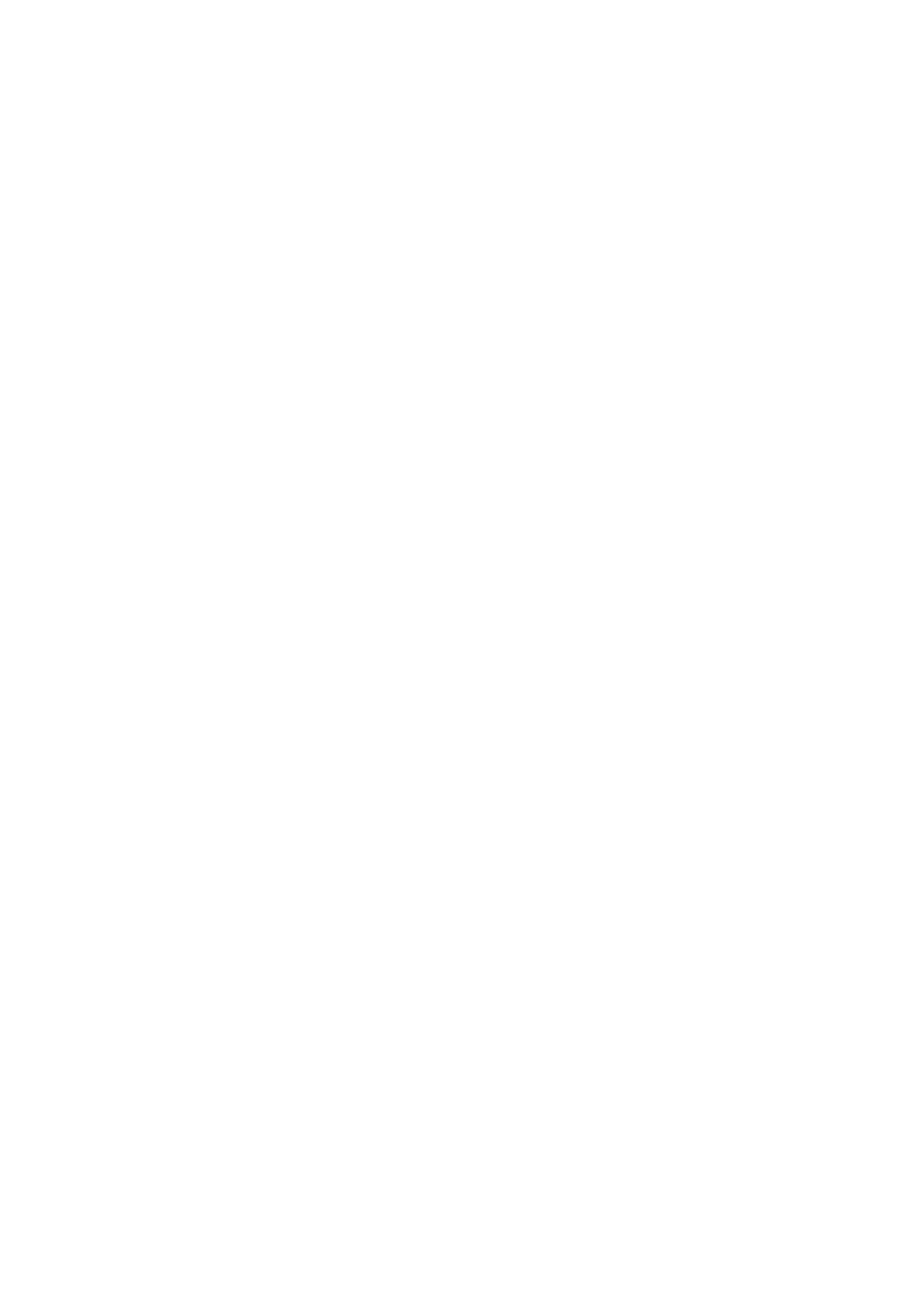
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А к какому виду искусства относится это произведение Добужинского?
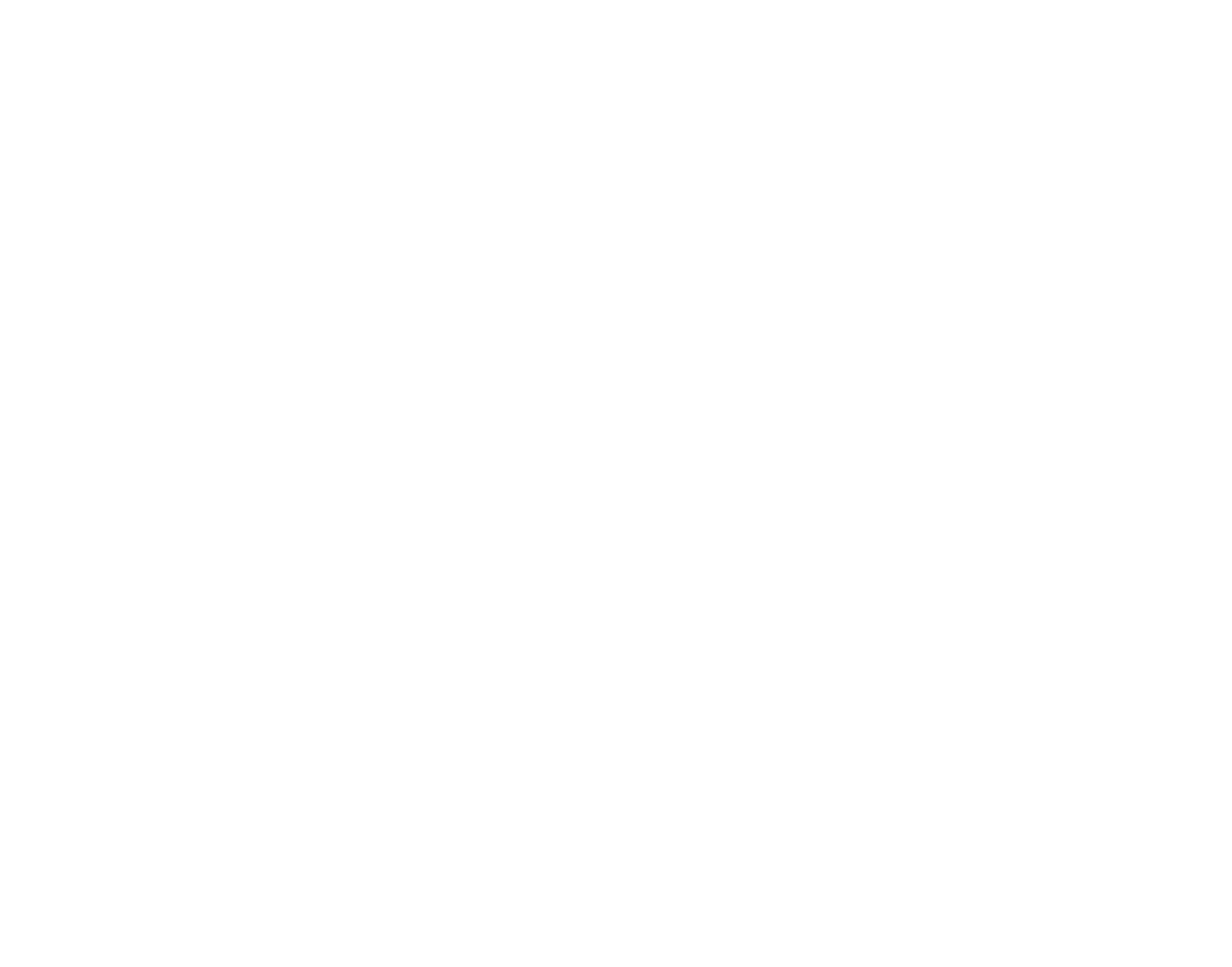
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
К какому произведению Добужинский создал эту иллюстрацию?
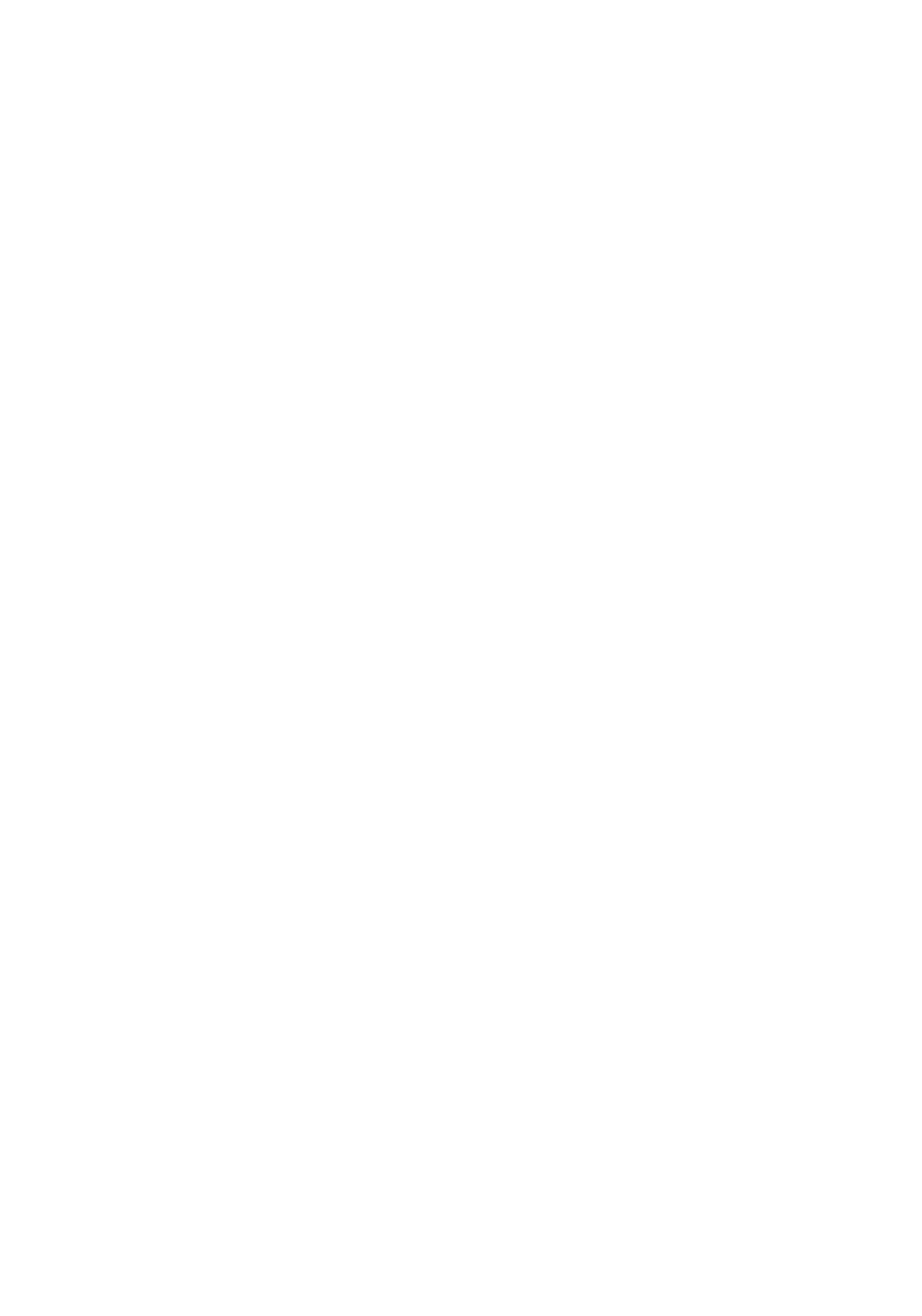
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В какое творческое объединение входил Добужинский?

| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кого изобразил Добунжиский в образе «Человека в очках»?
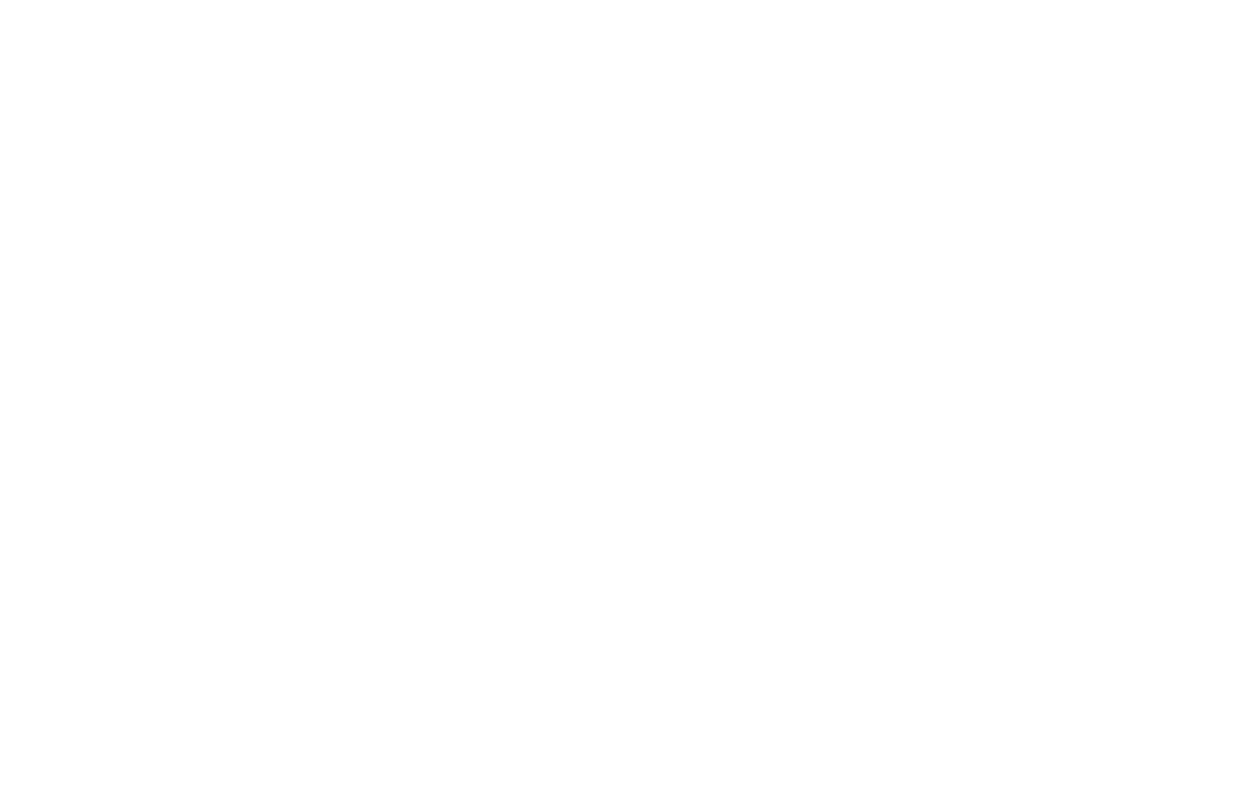
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В каком городе Добужинский создал этот пейзаж?
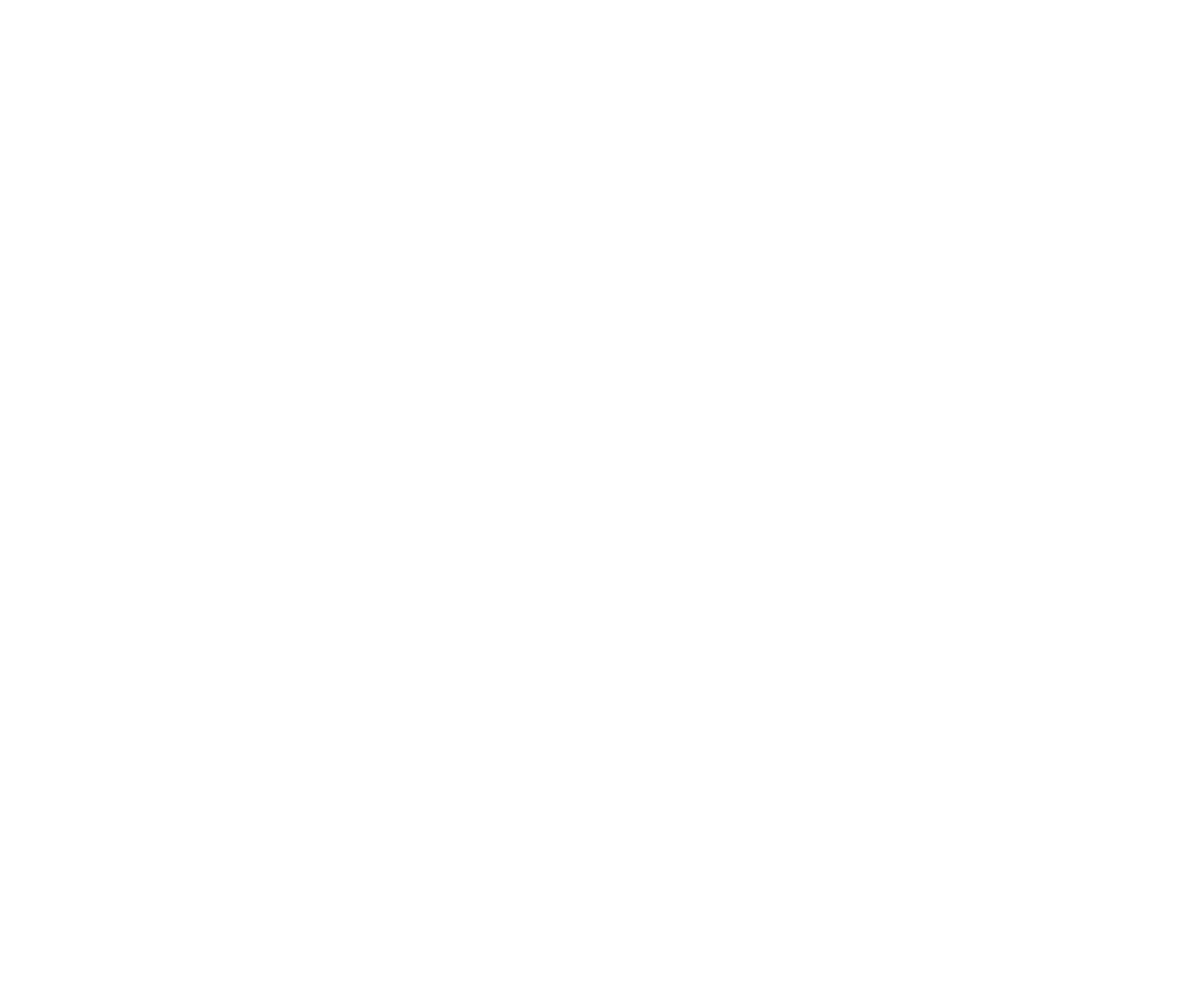
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А где был написан этот пейзаж?
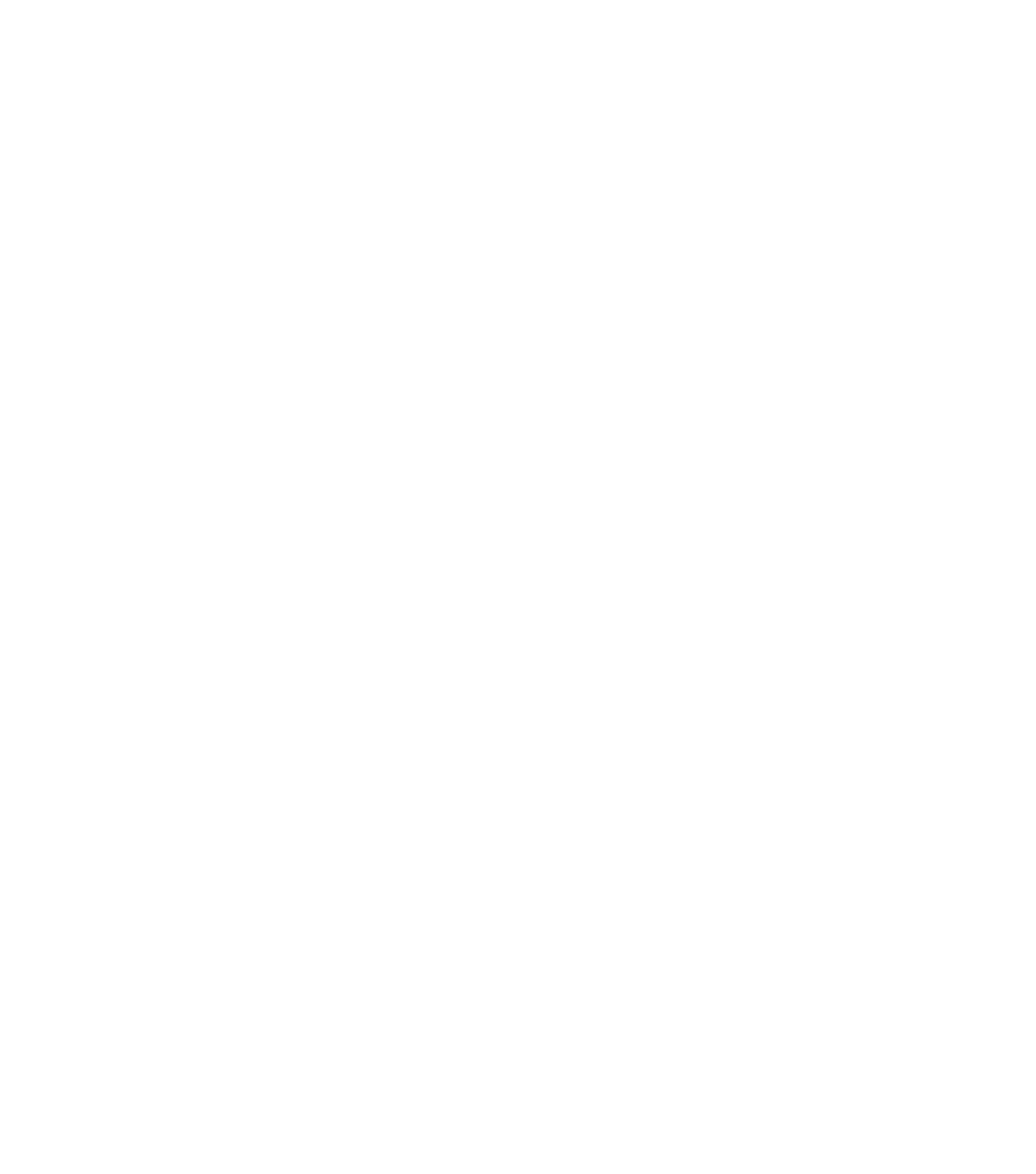
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как называется это произведение Добужинского?
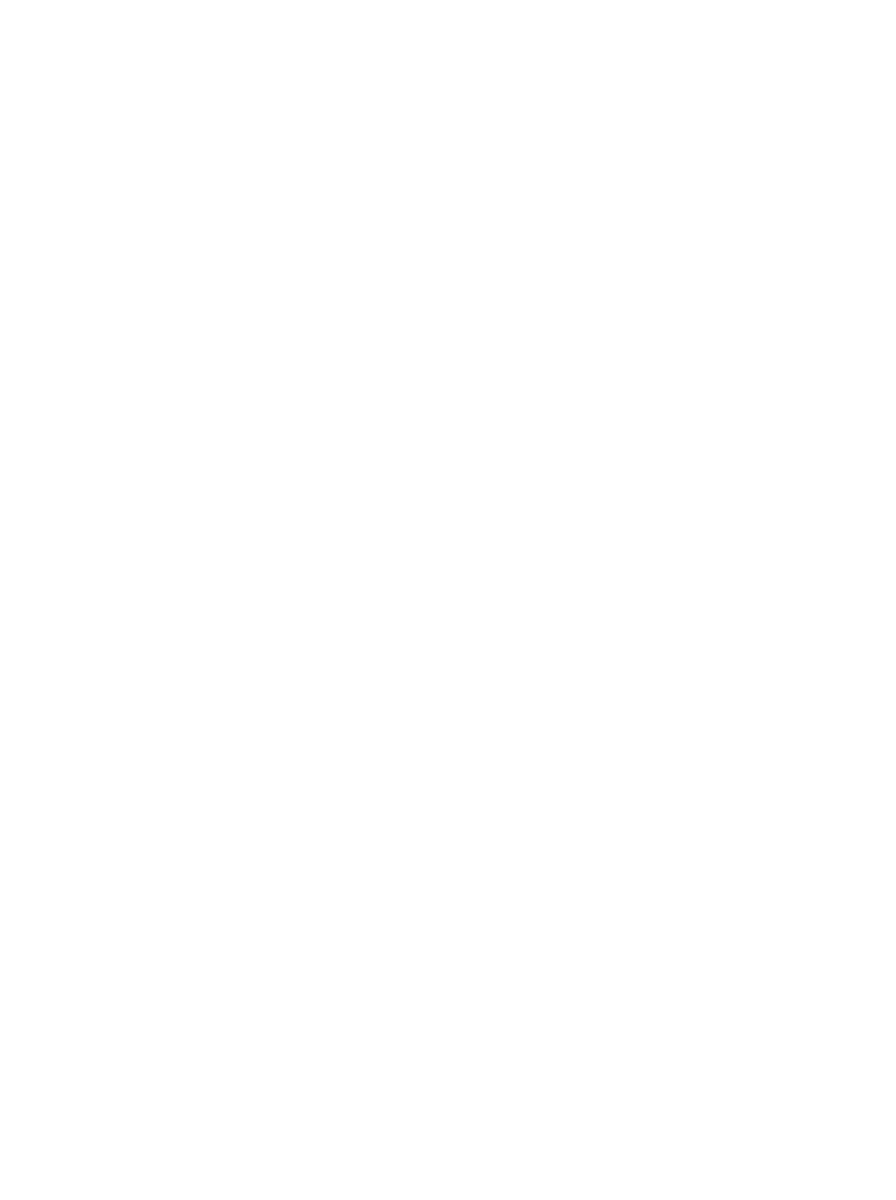
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Для какого журнала Добужинский создал эту иллюстрацию?
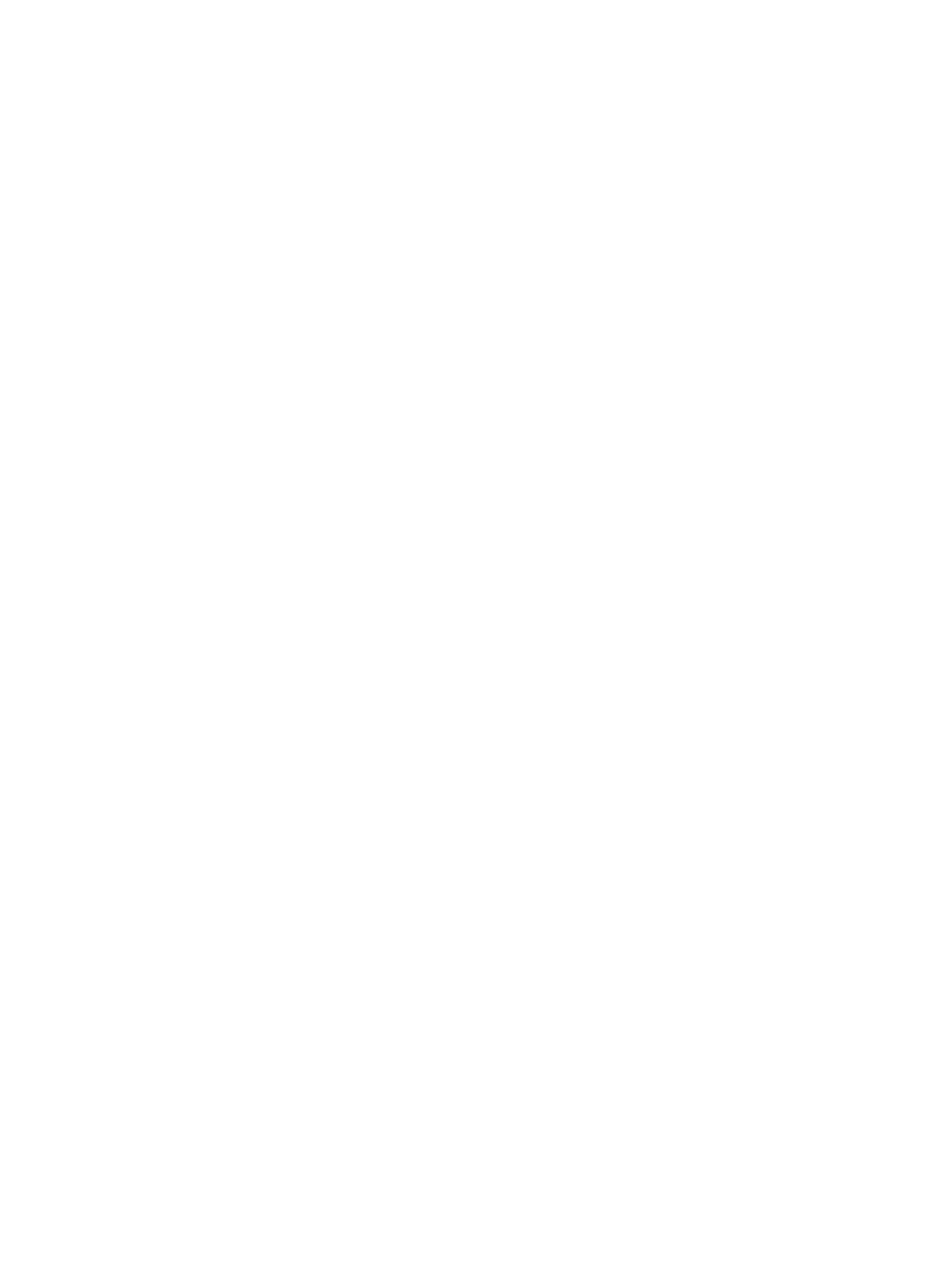
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В каком городе нашел упокоение Добужинский?
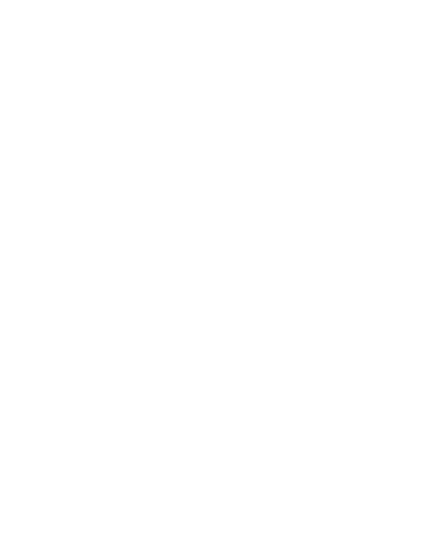
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
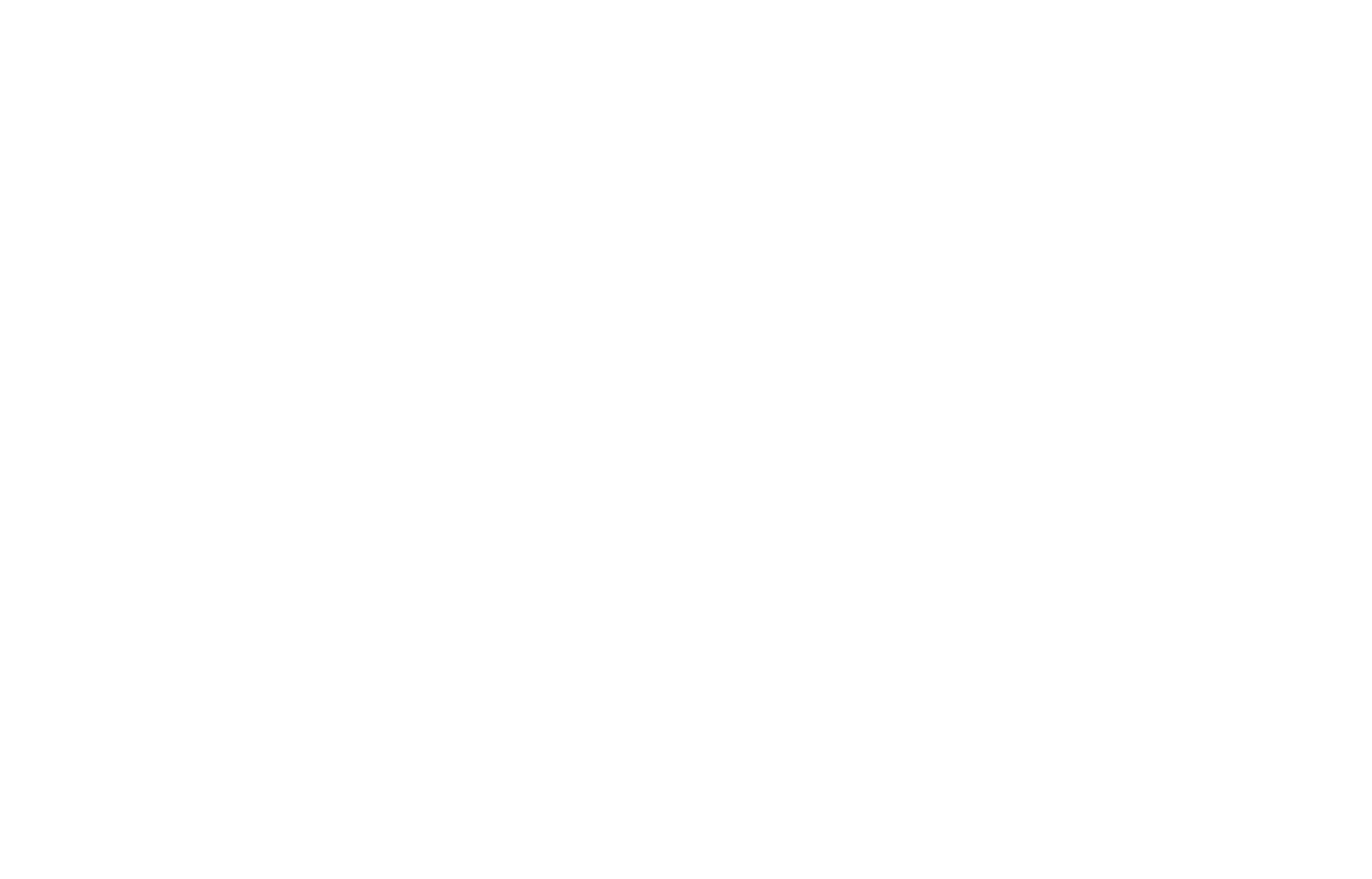
Ой…
Но не стоит расстраиваться! На нашем сайте вы можете посмотреть великое множество произведений искусства.
| Пройти еще раз |
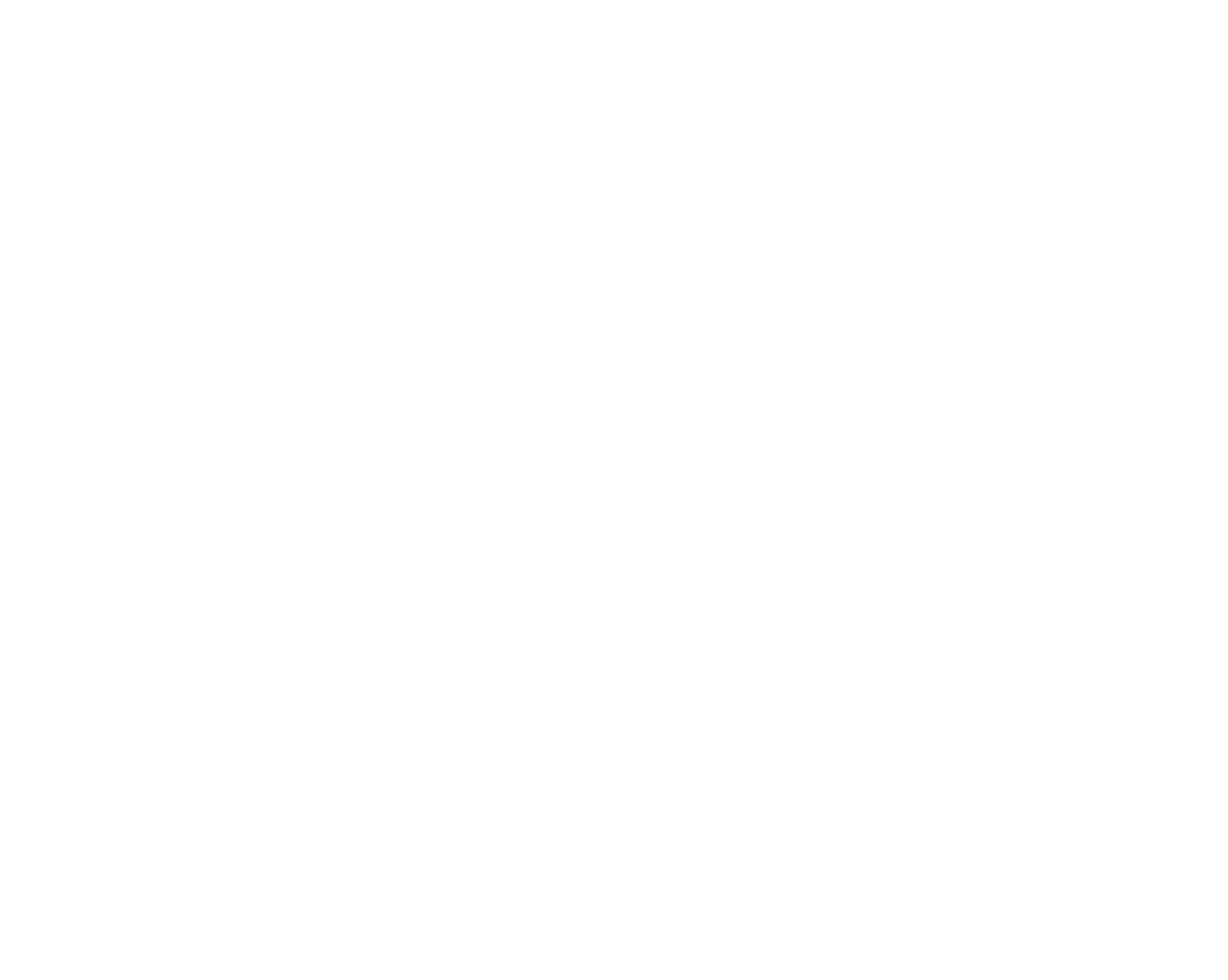
Неплохо!
Ошибок многовато, но очевидно, что вы искренне любите искусство.
| Пройти еще раз |
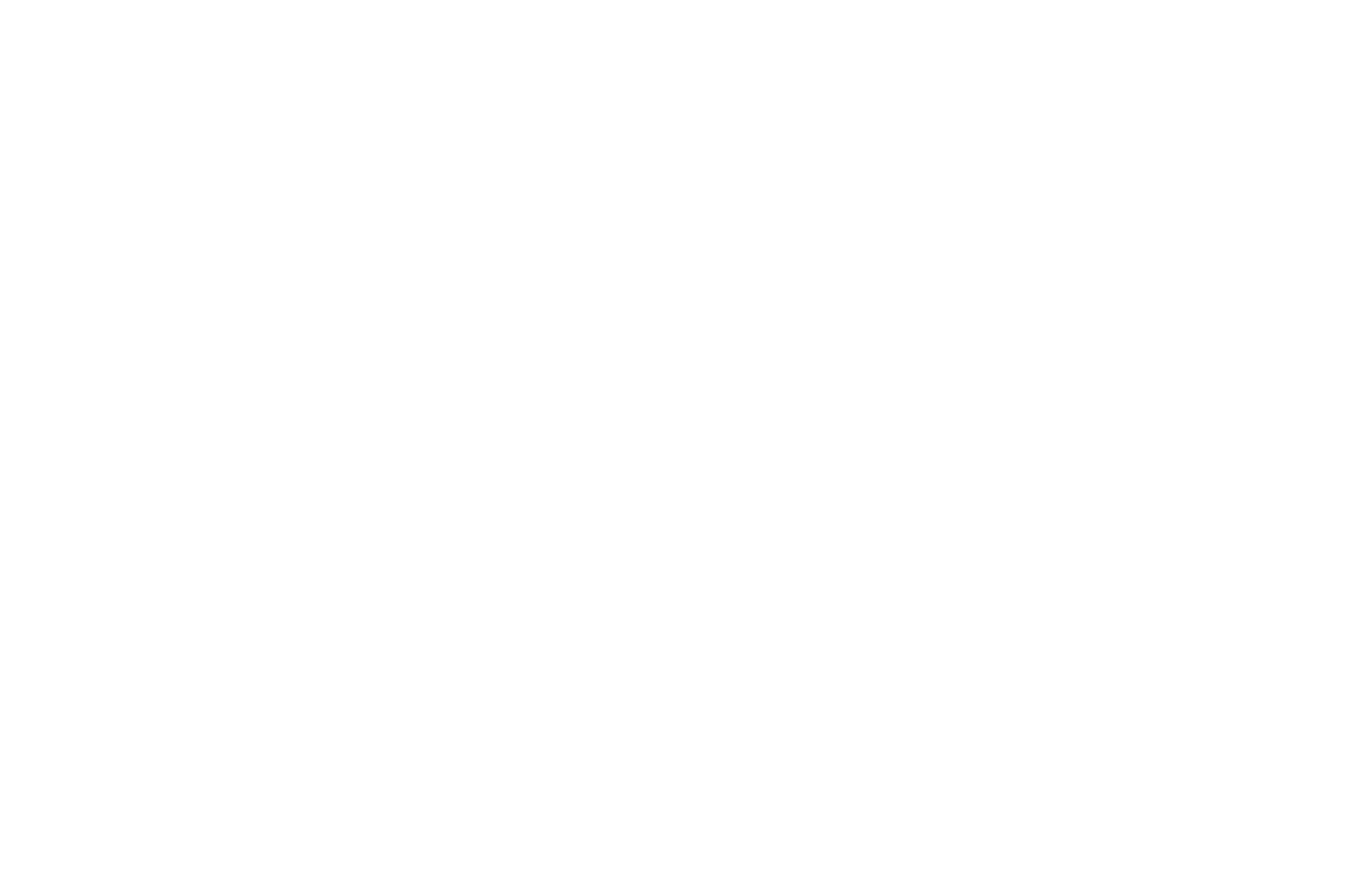
Хорошо!
Да, это была нелёгкая задача угадать названия произведений. Не все удалось «опознать», но больше половины правильных ответов – за вами.
| Пройти еще раз |
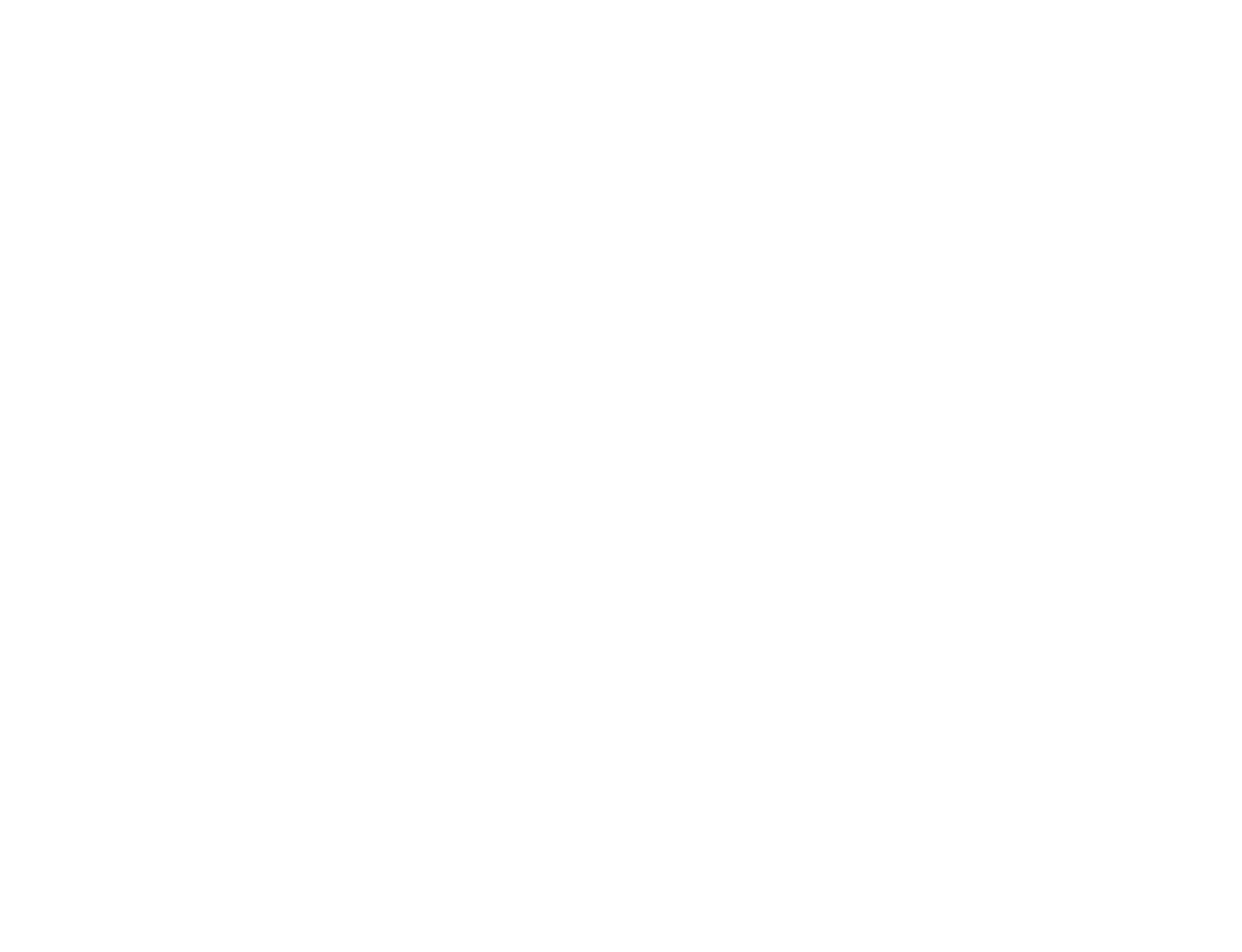
Блестяще!
Вы настоящий знаток творчества Добужинского! Ваши память и внимательность – поразительны! Примите наши поздравления, таких результатов добиваются немногие!
| Пройти еще раз |

Над выпуском работали:
Автор текста: Е. Минаева
Автор теста: М. Гордеева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru
Автор теста: М. Гордеева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru