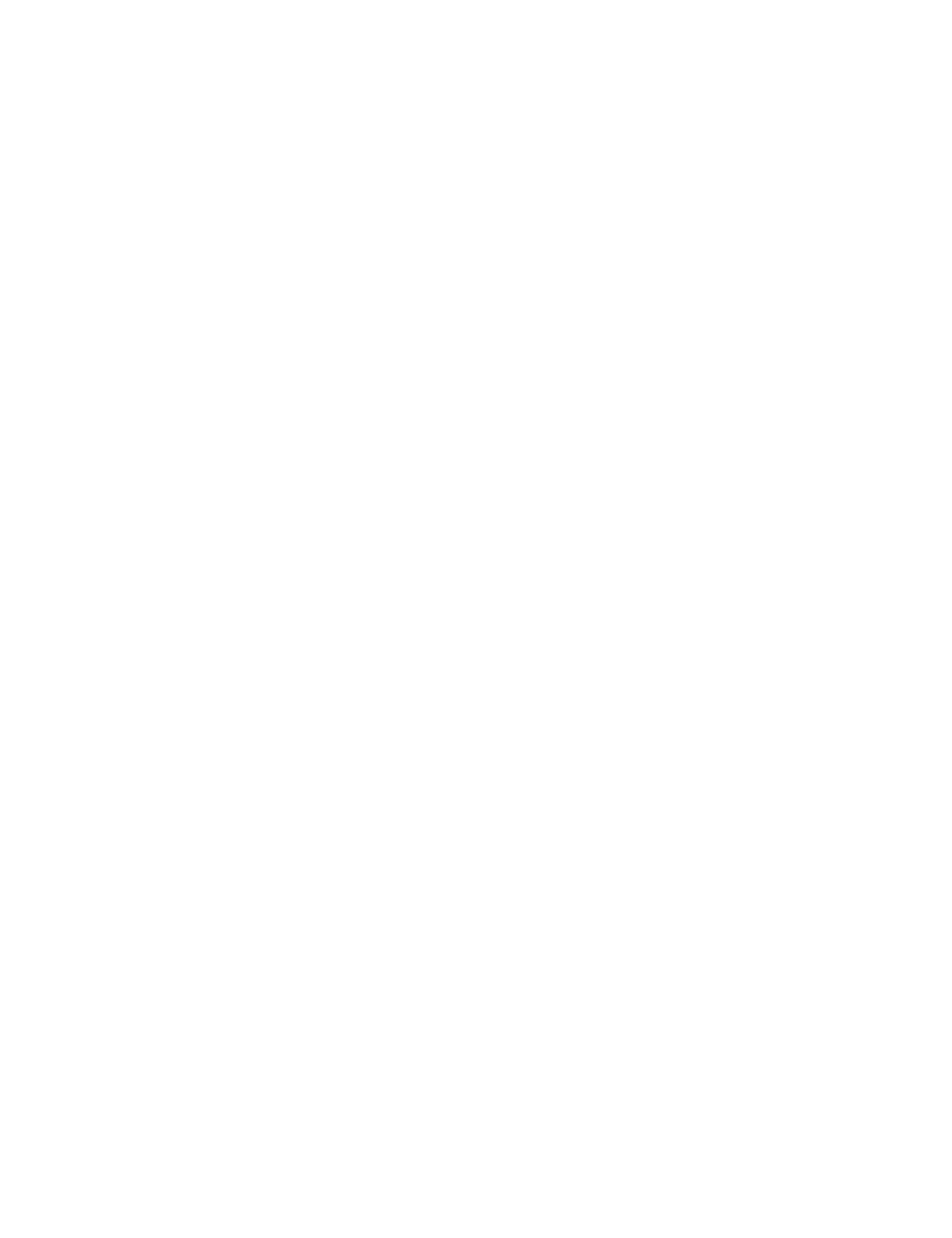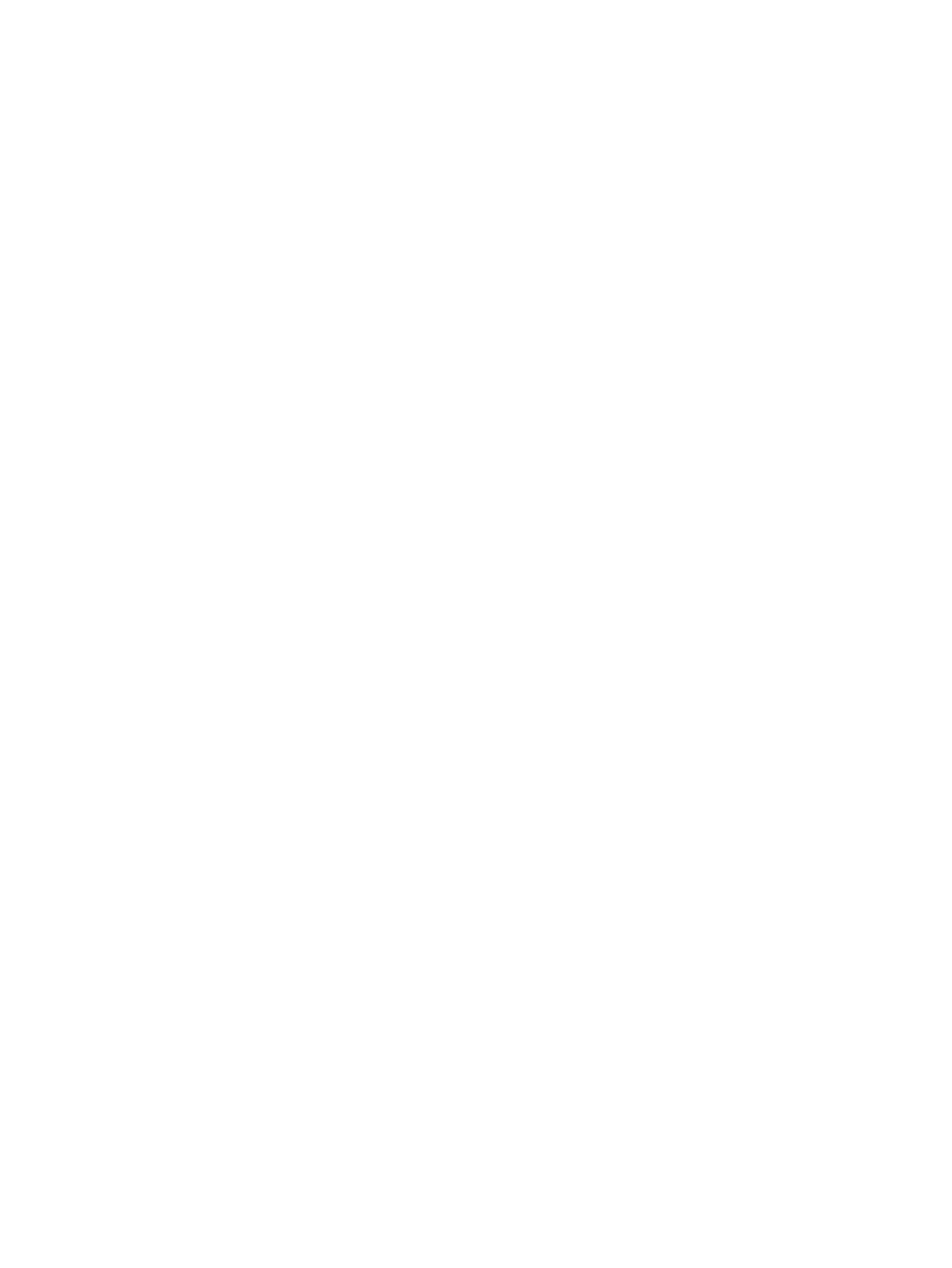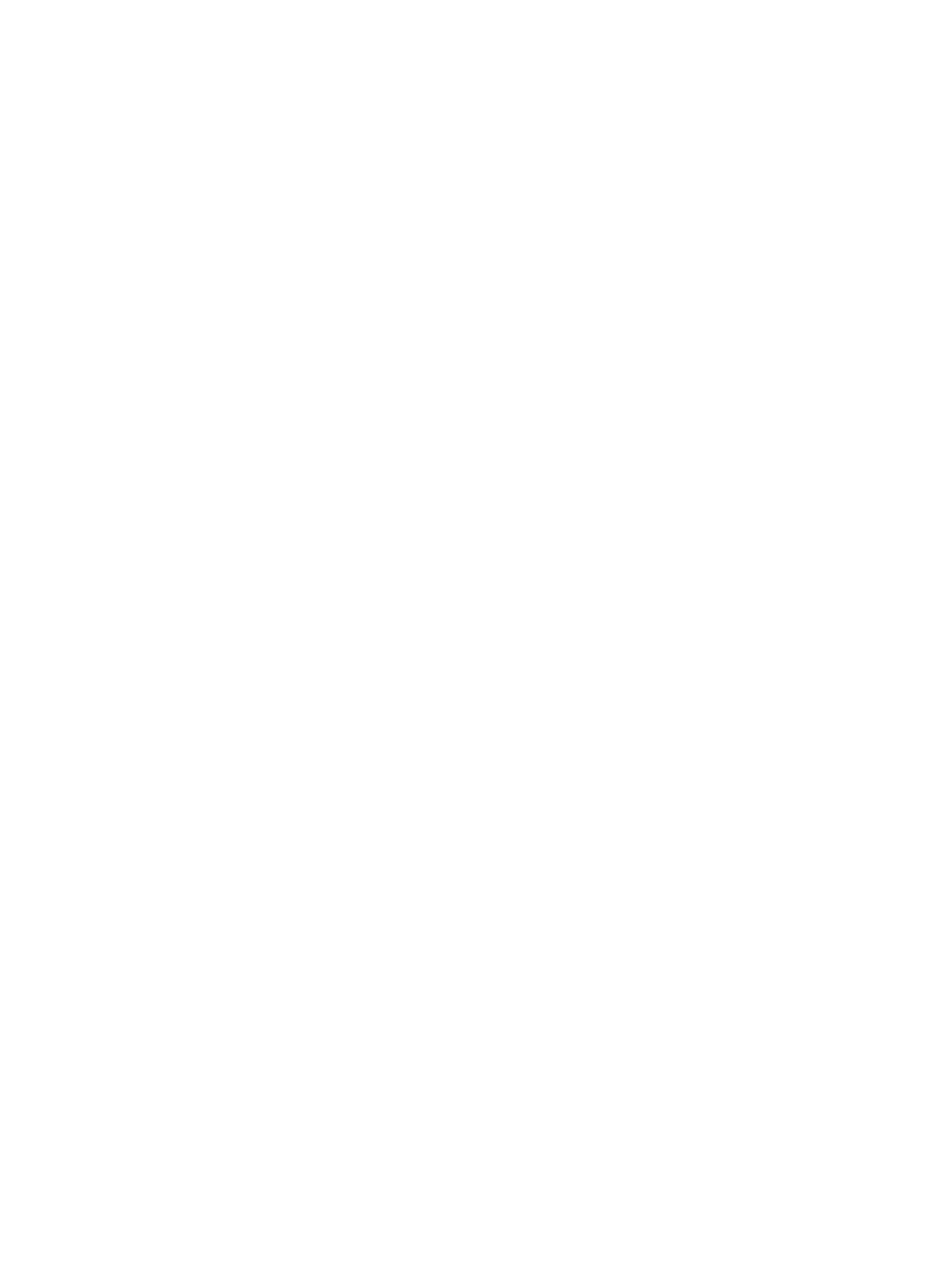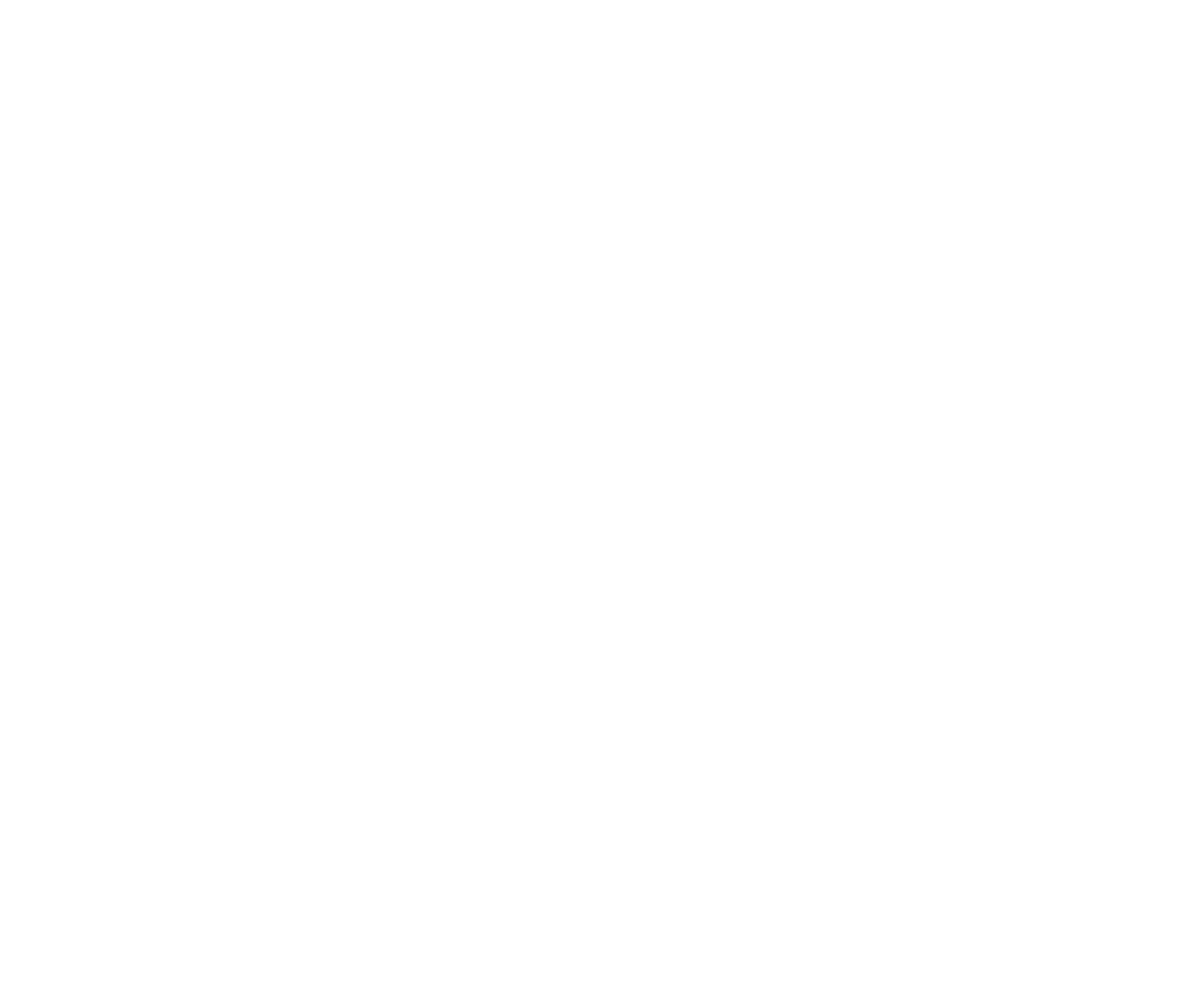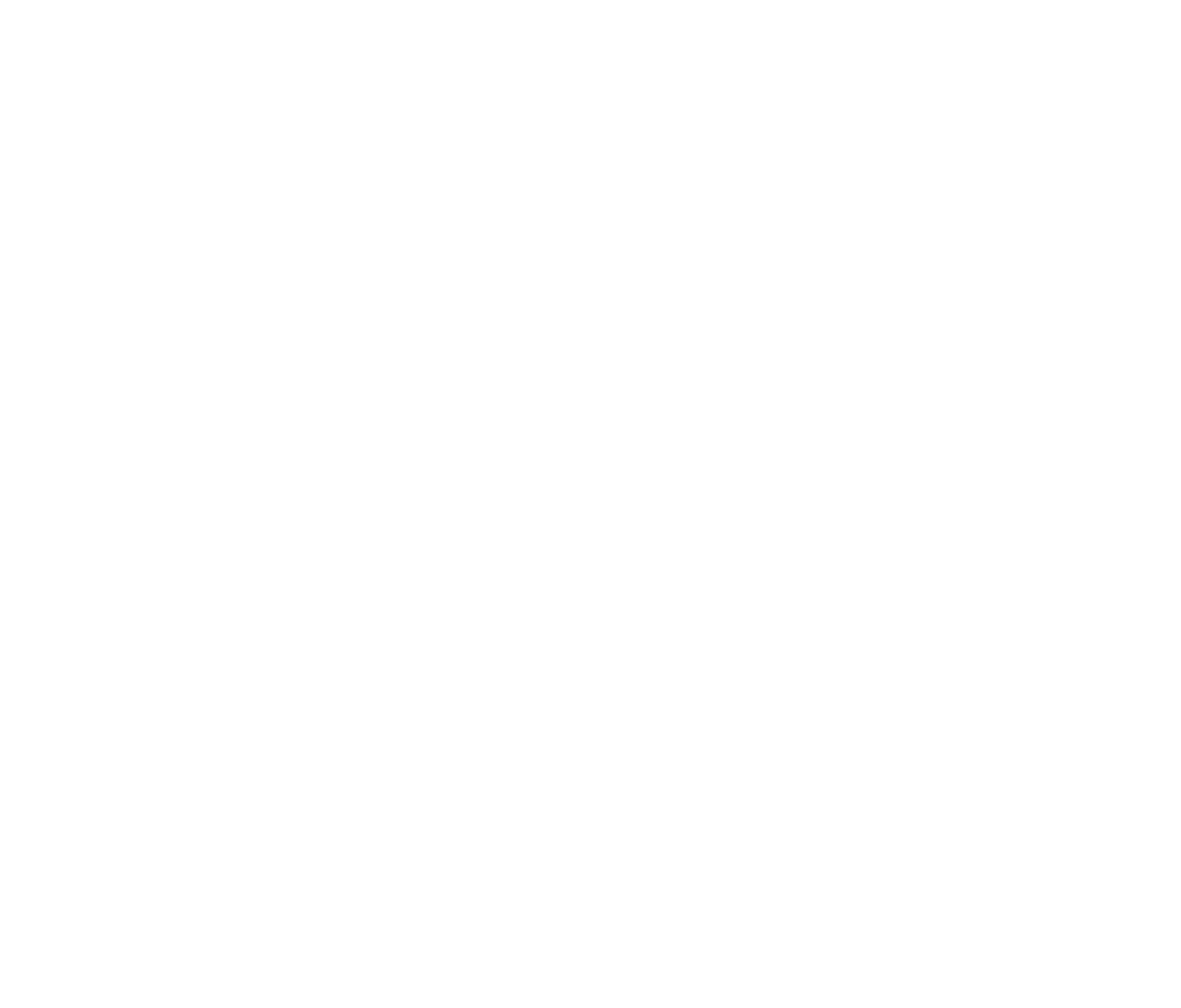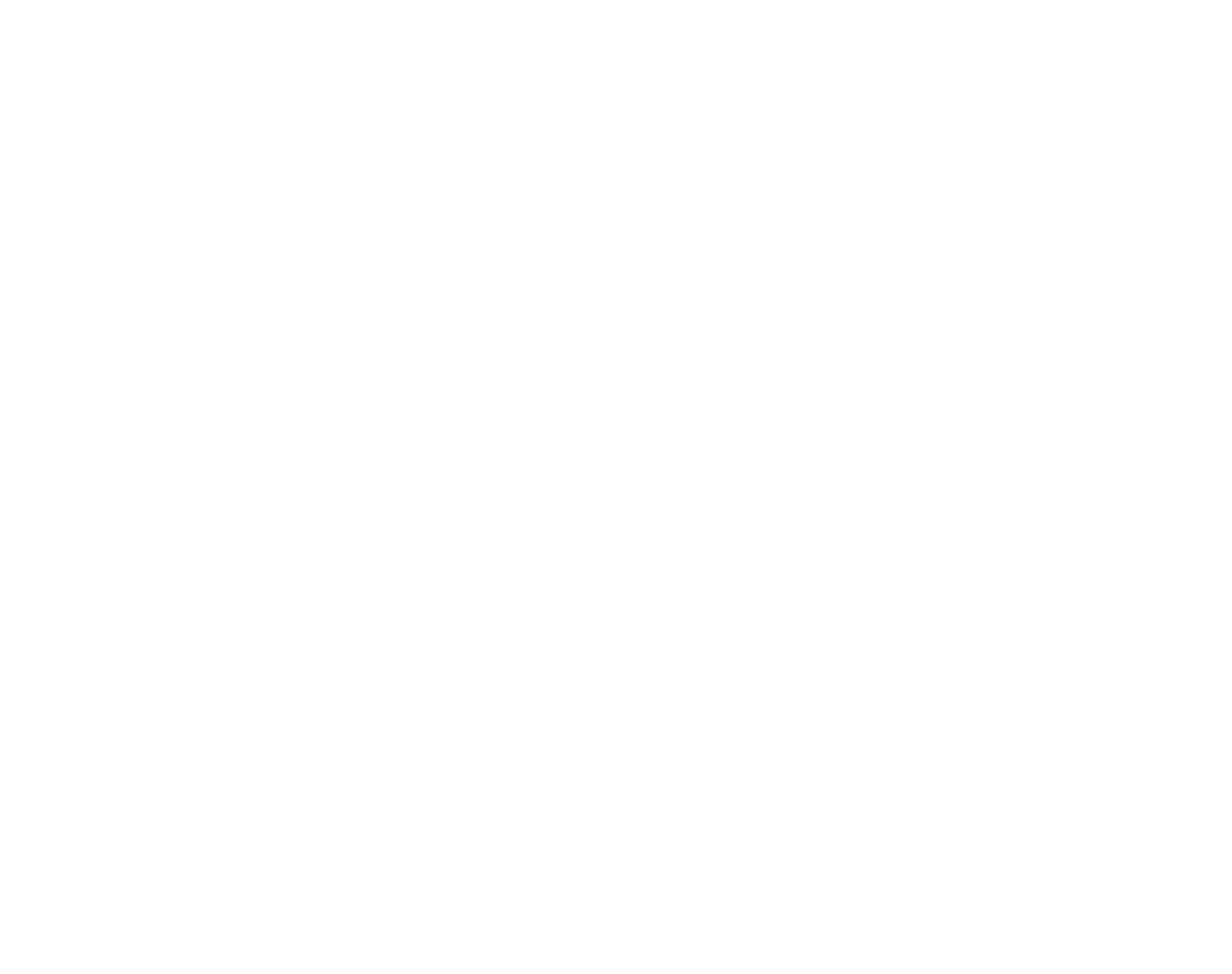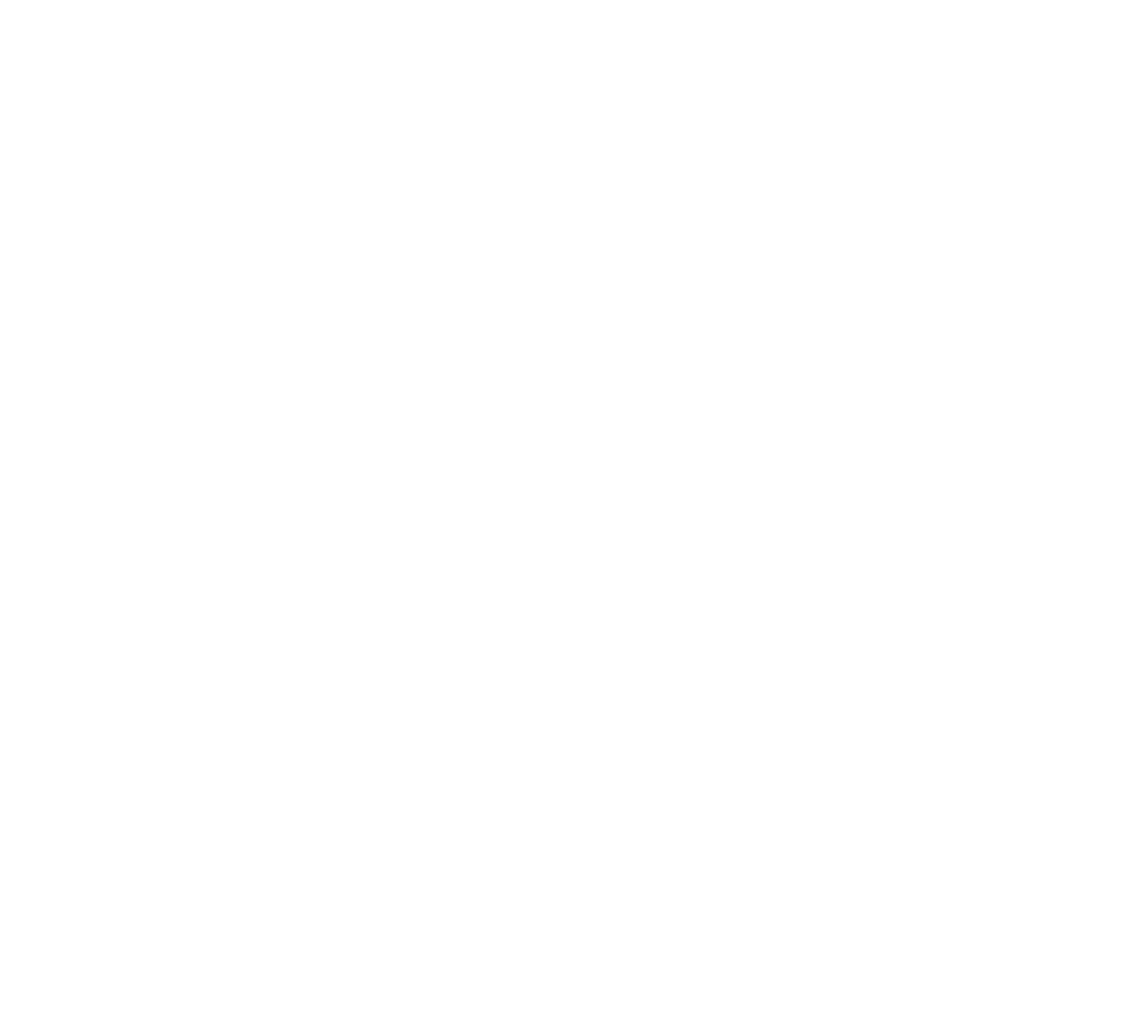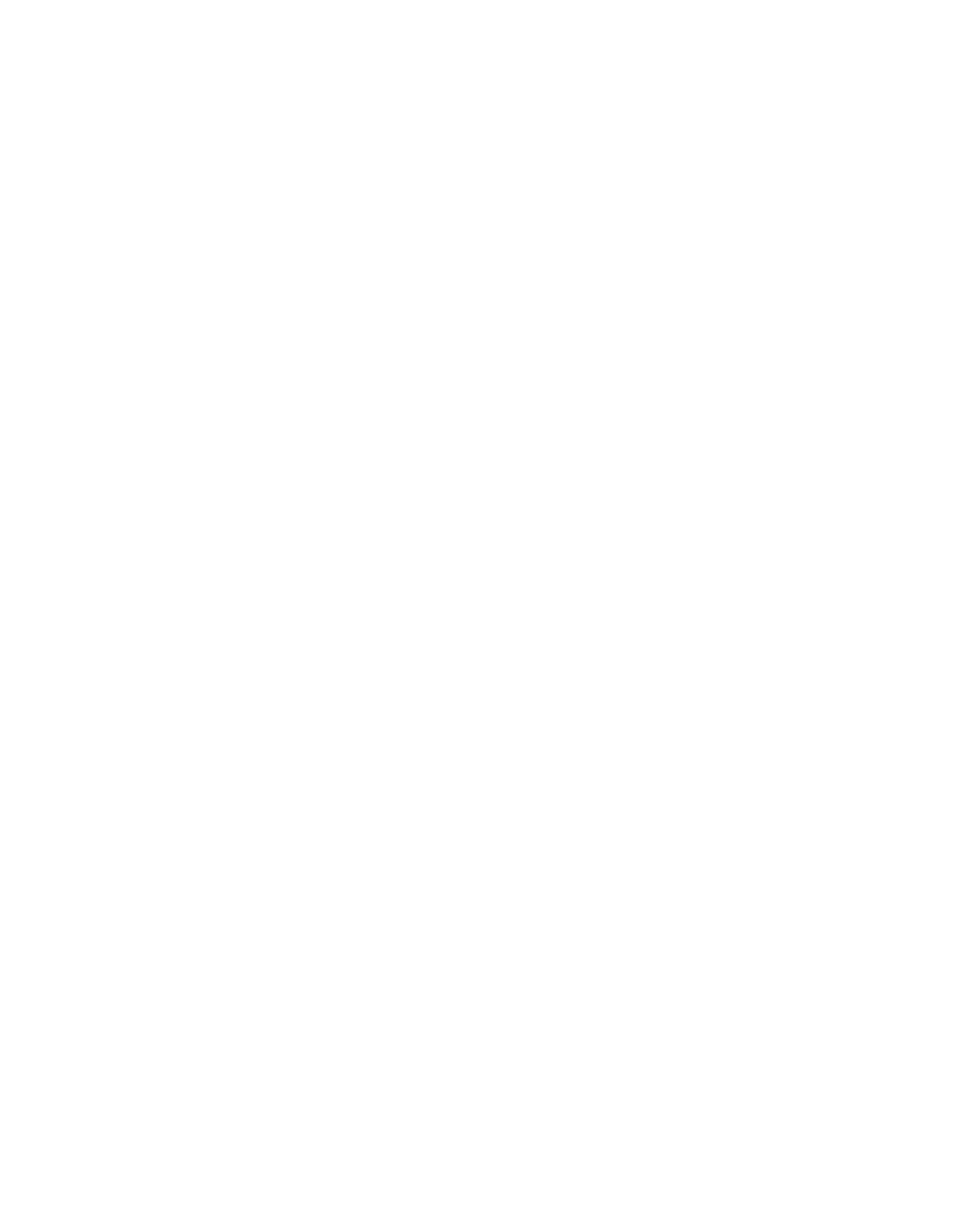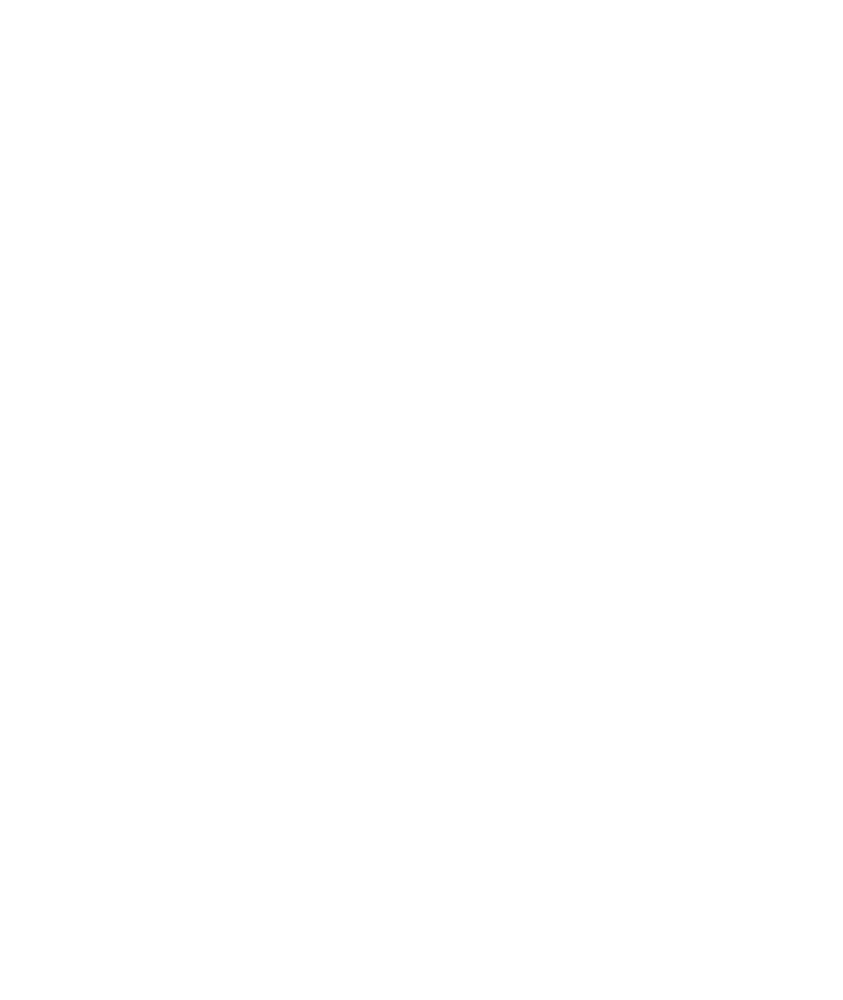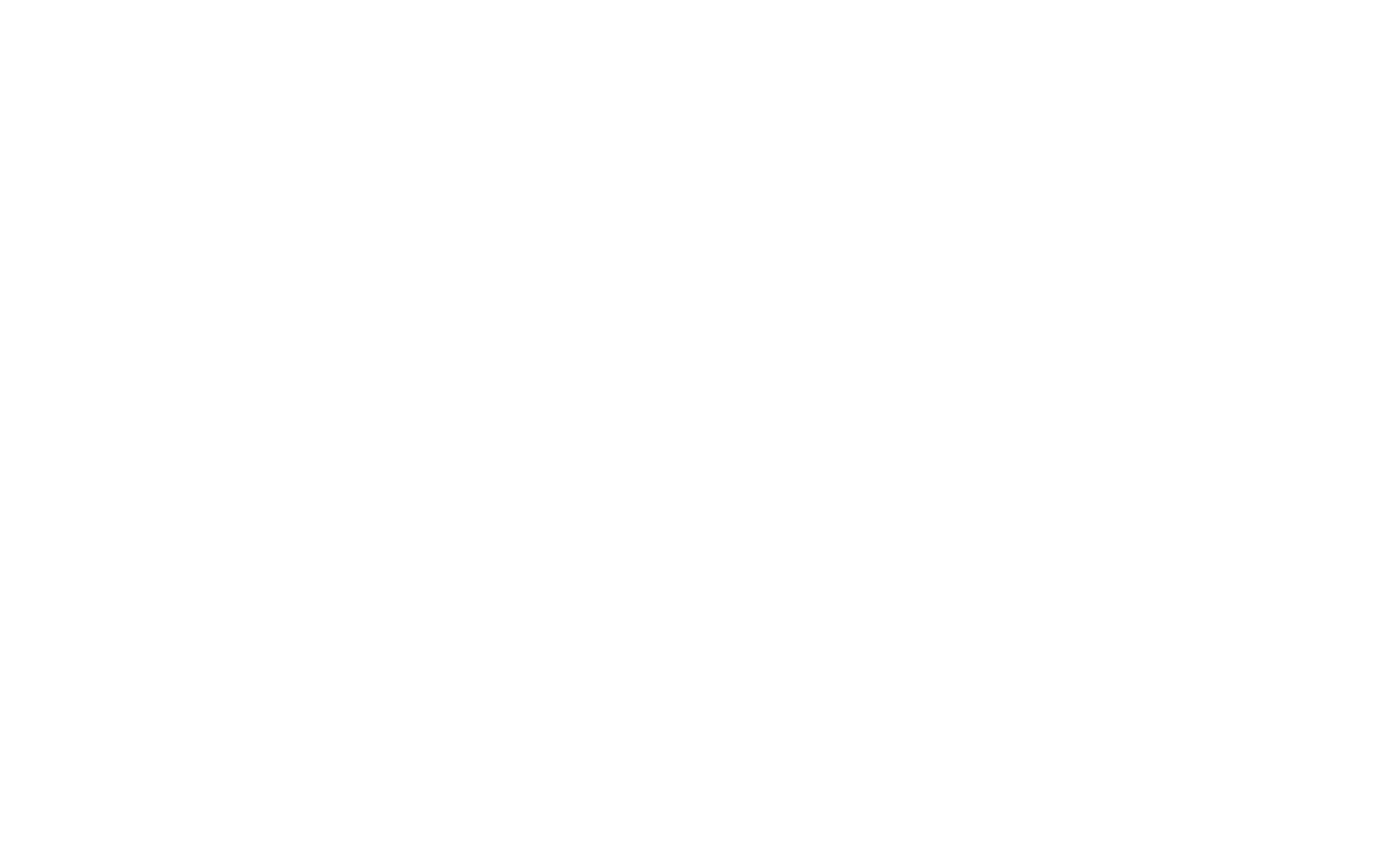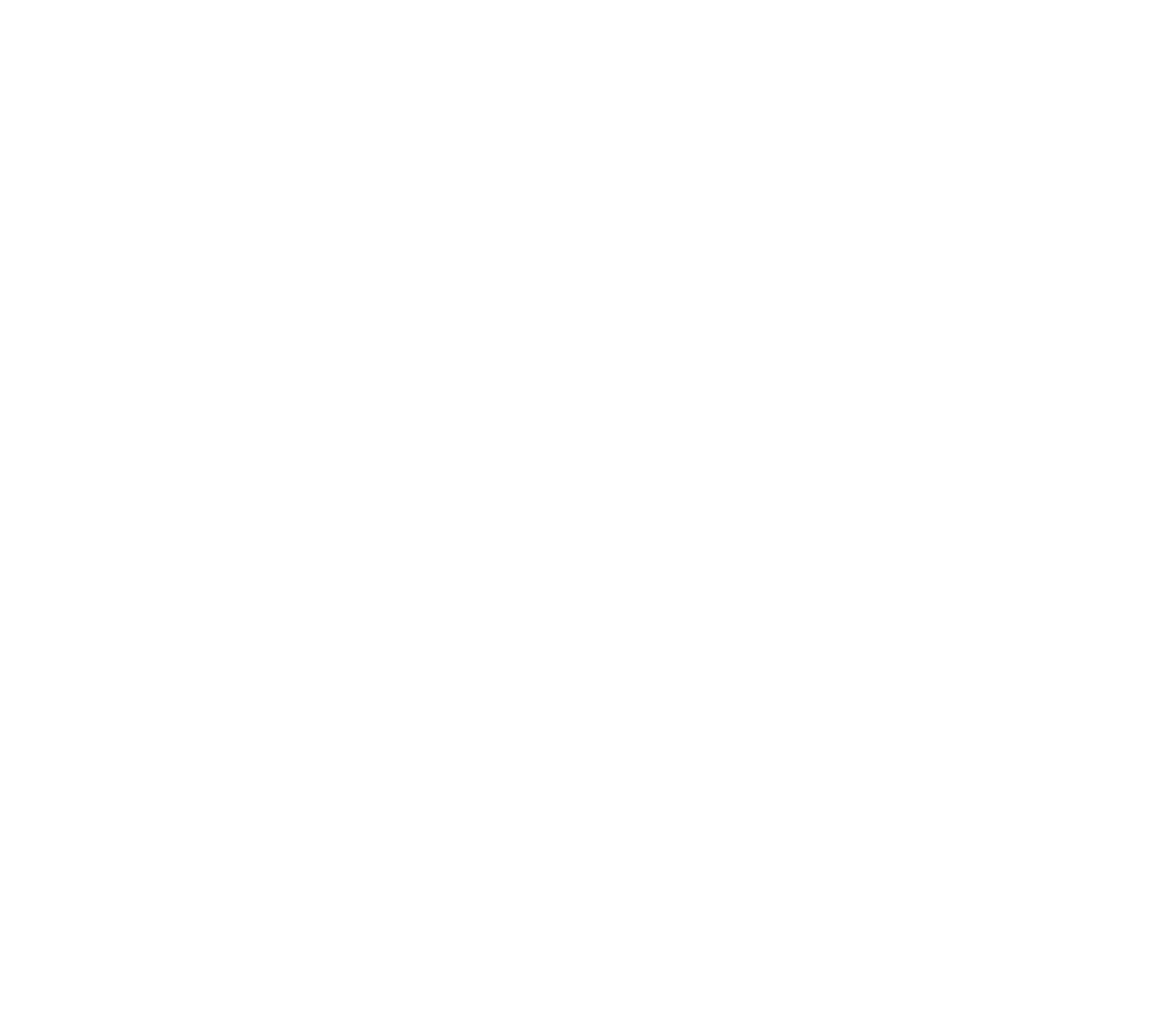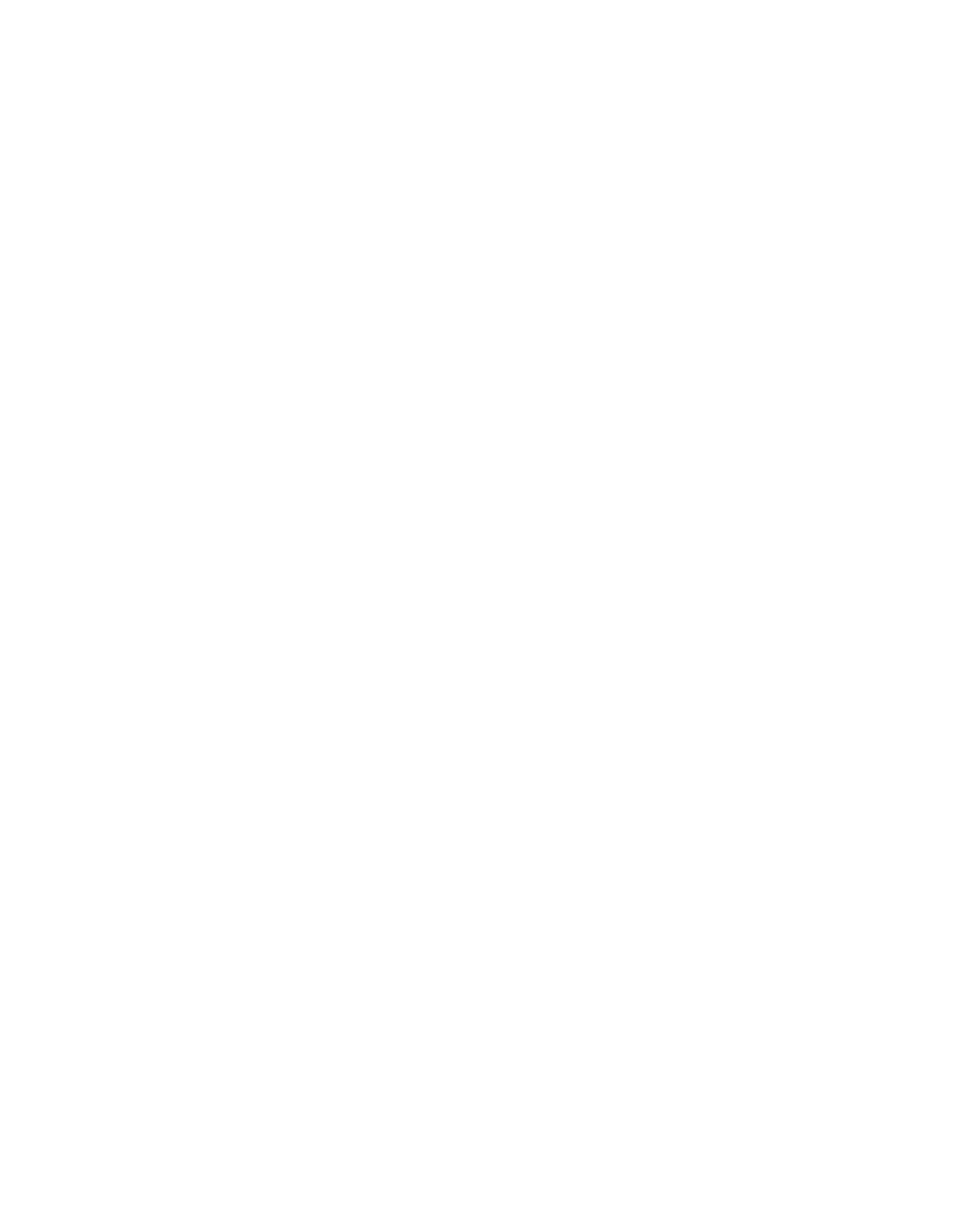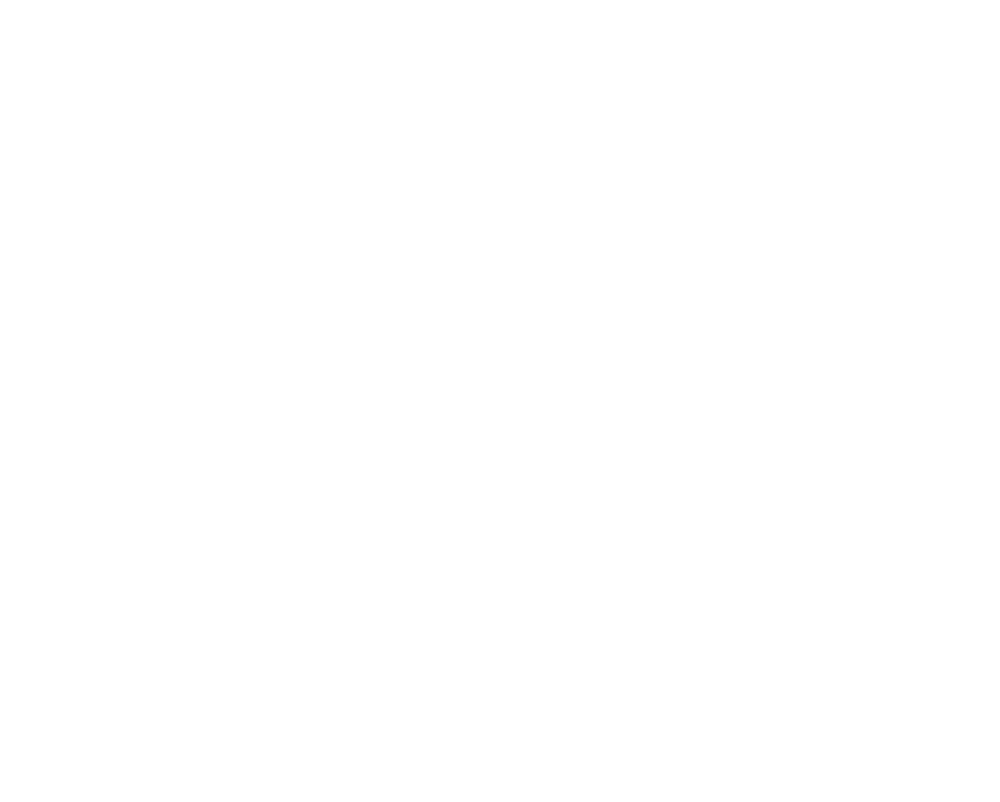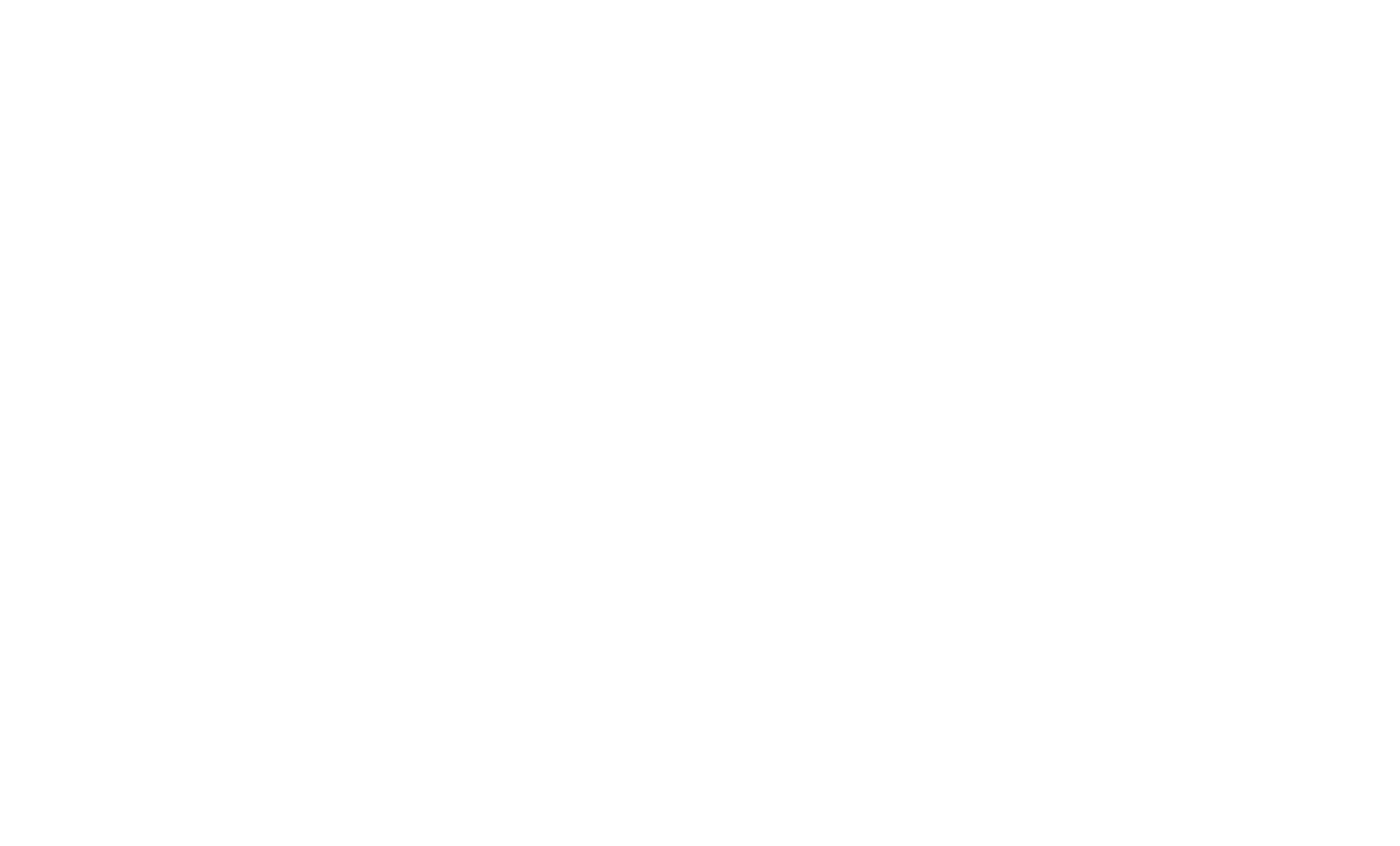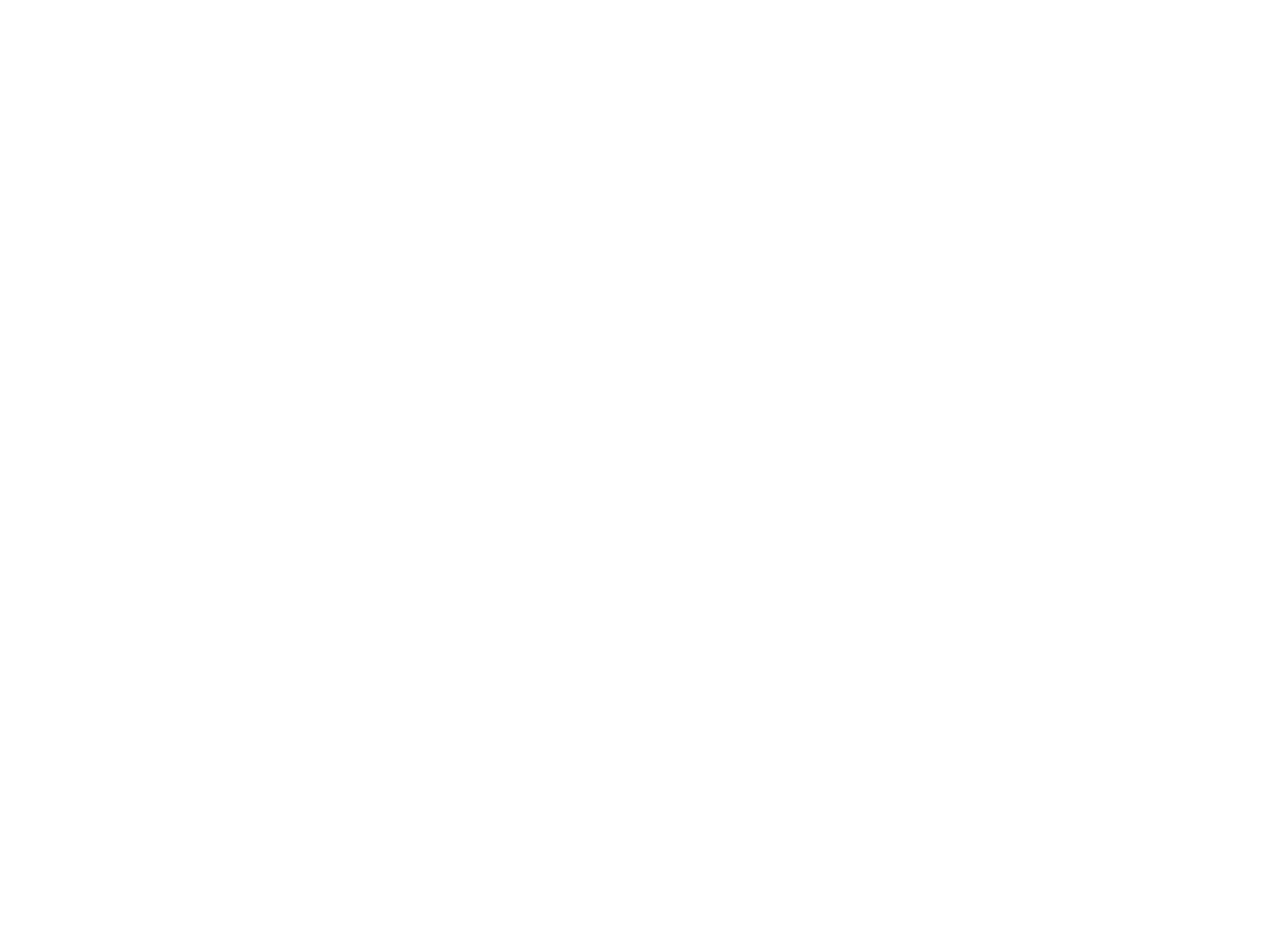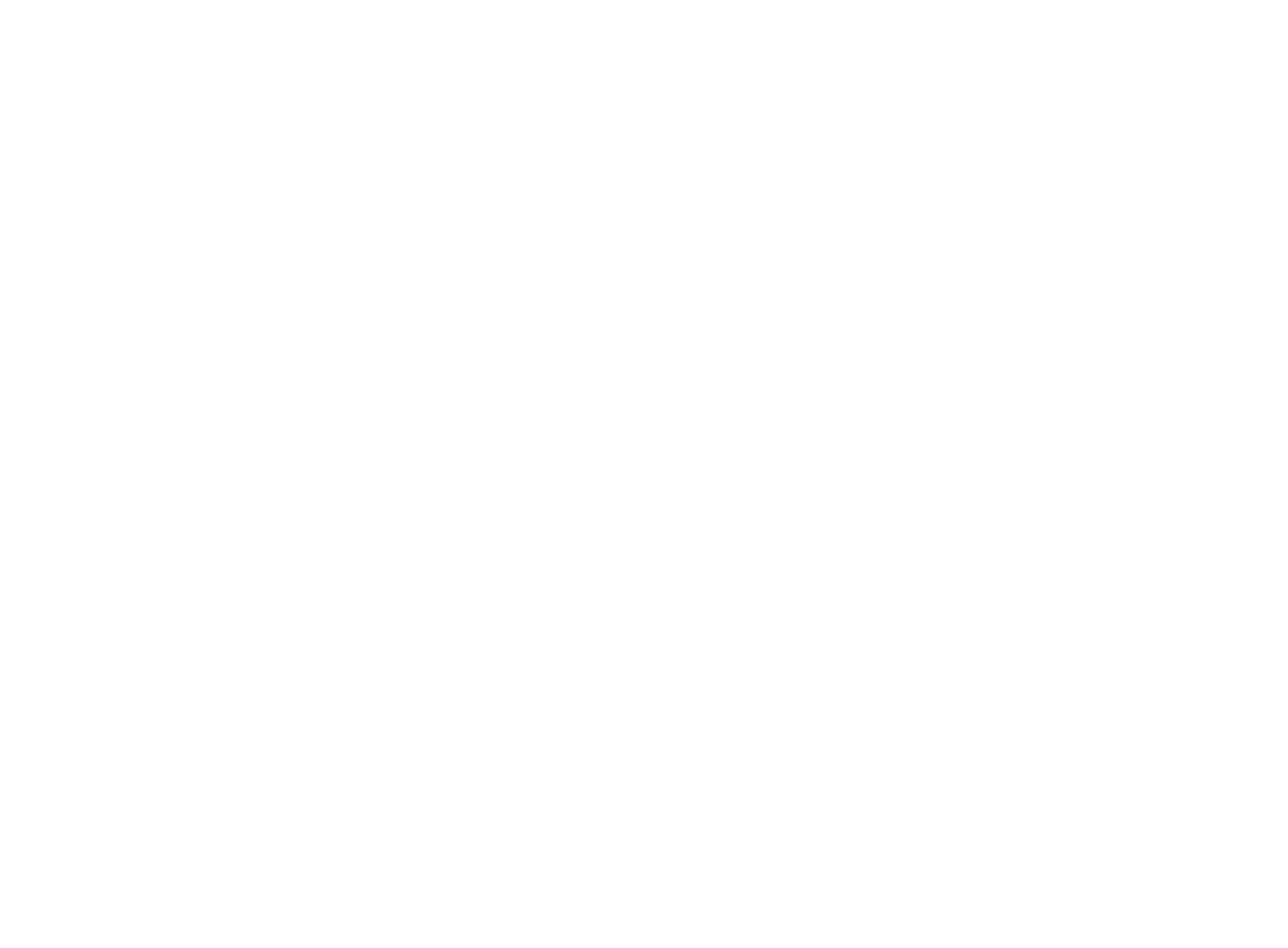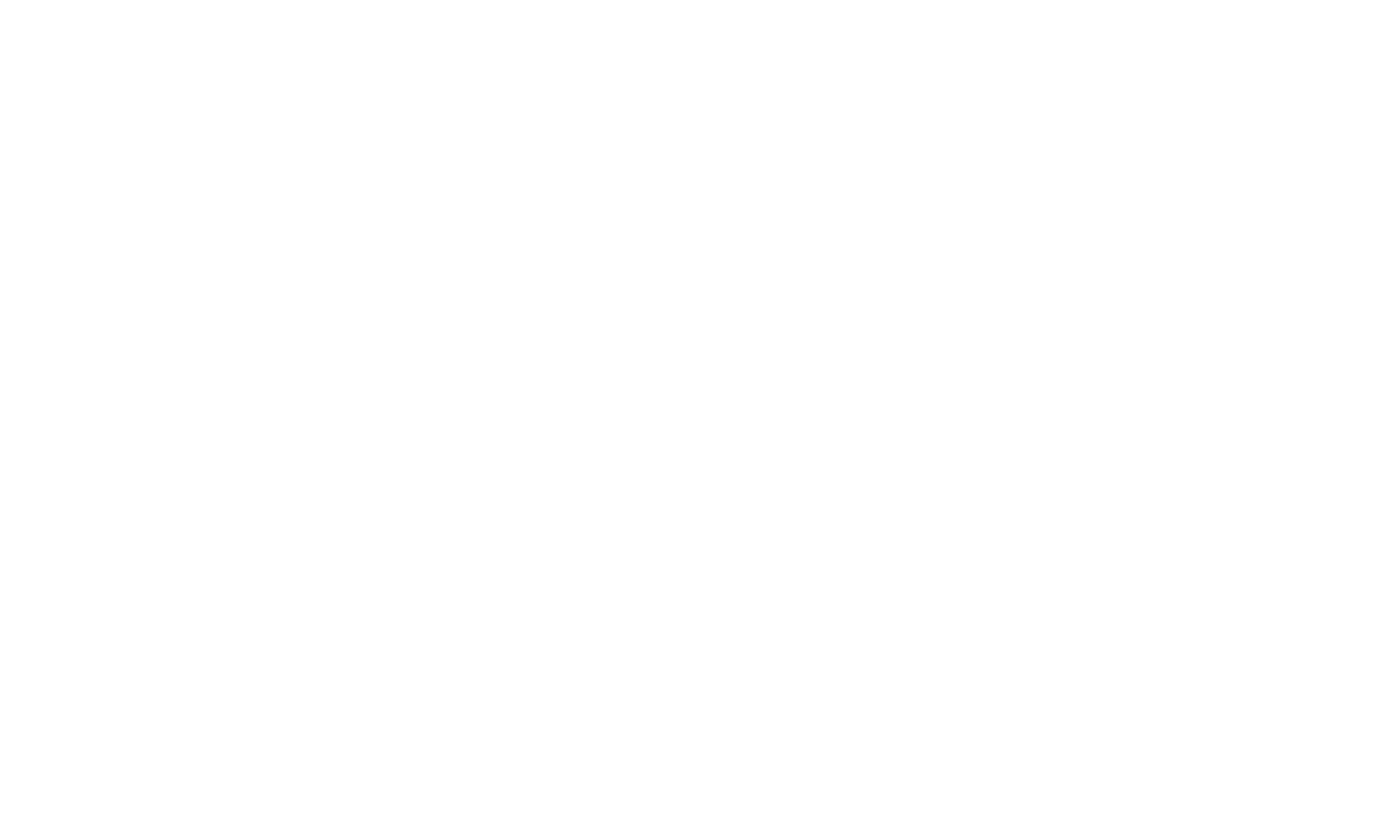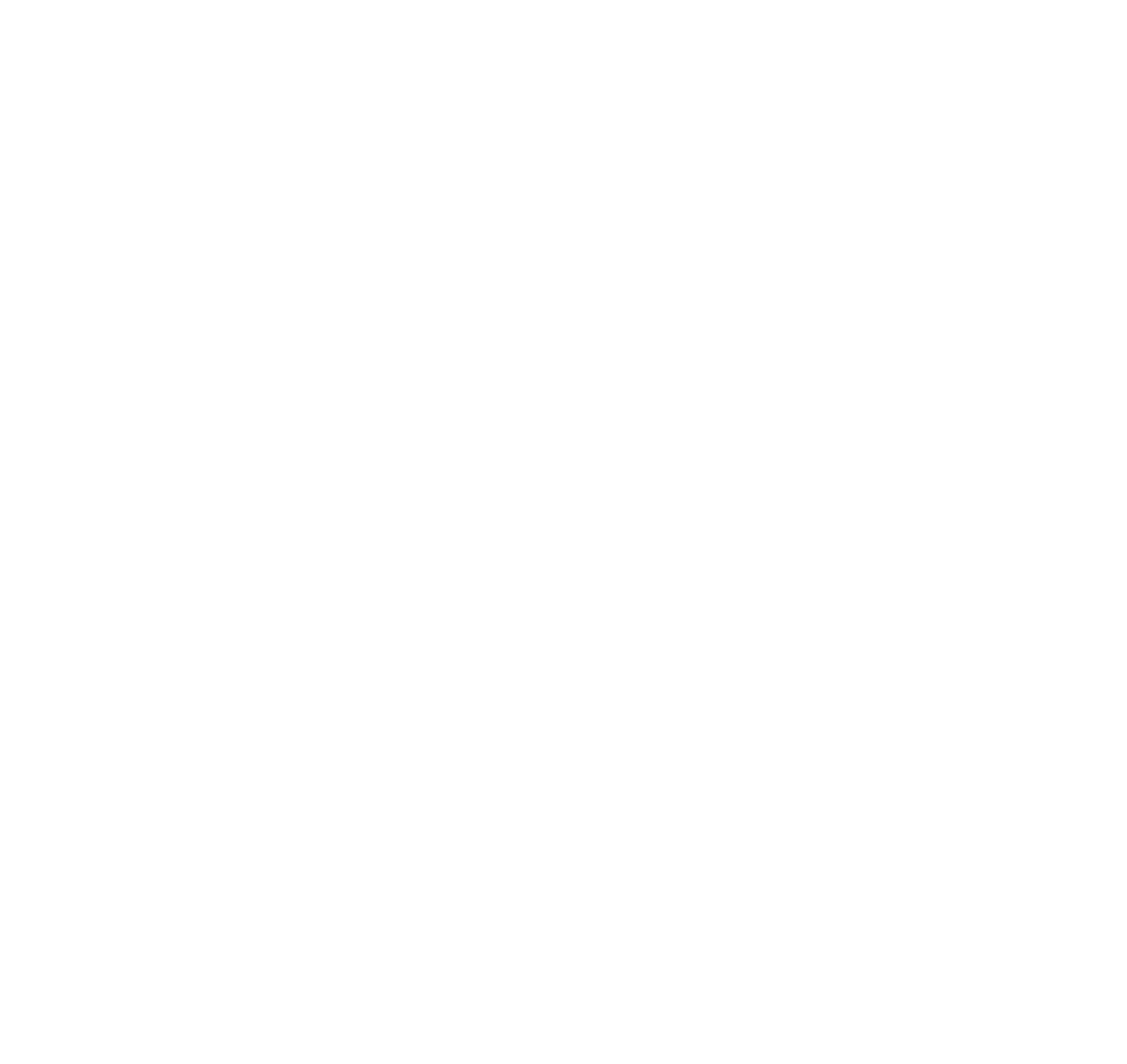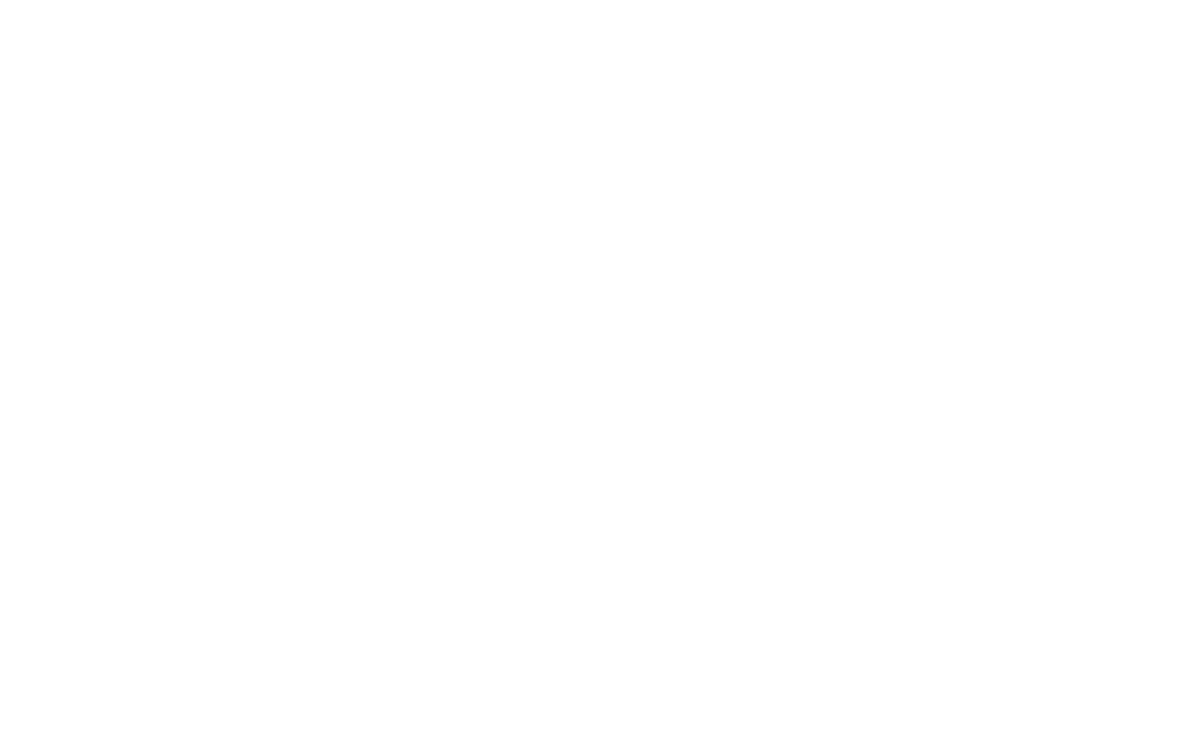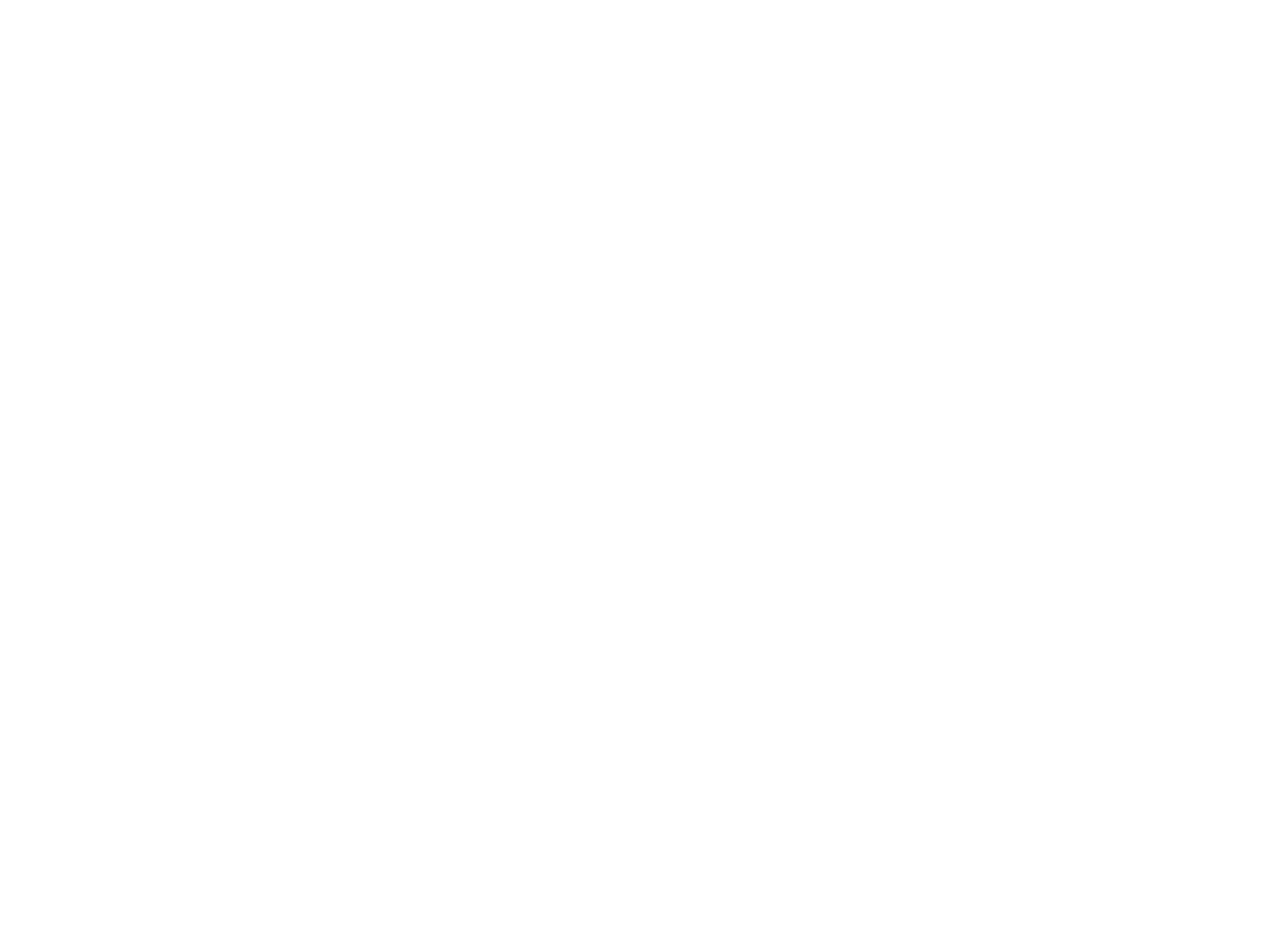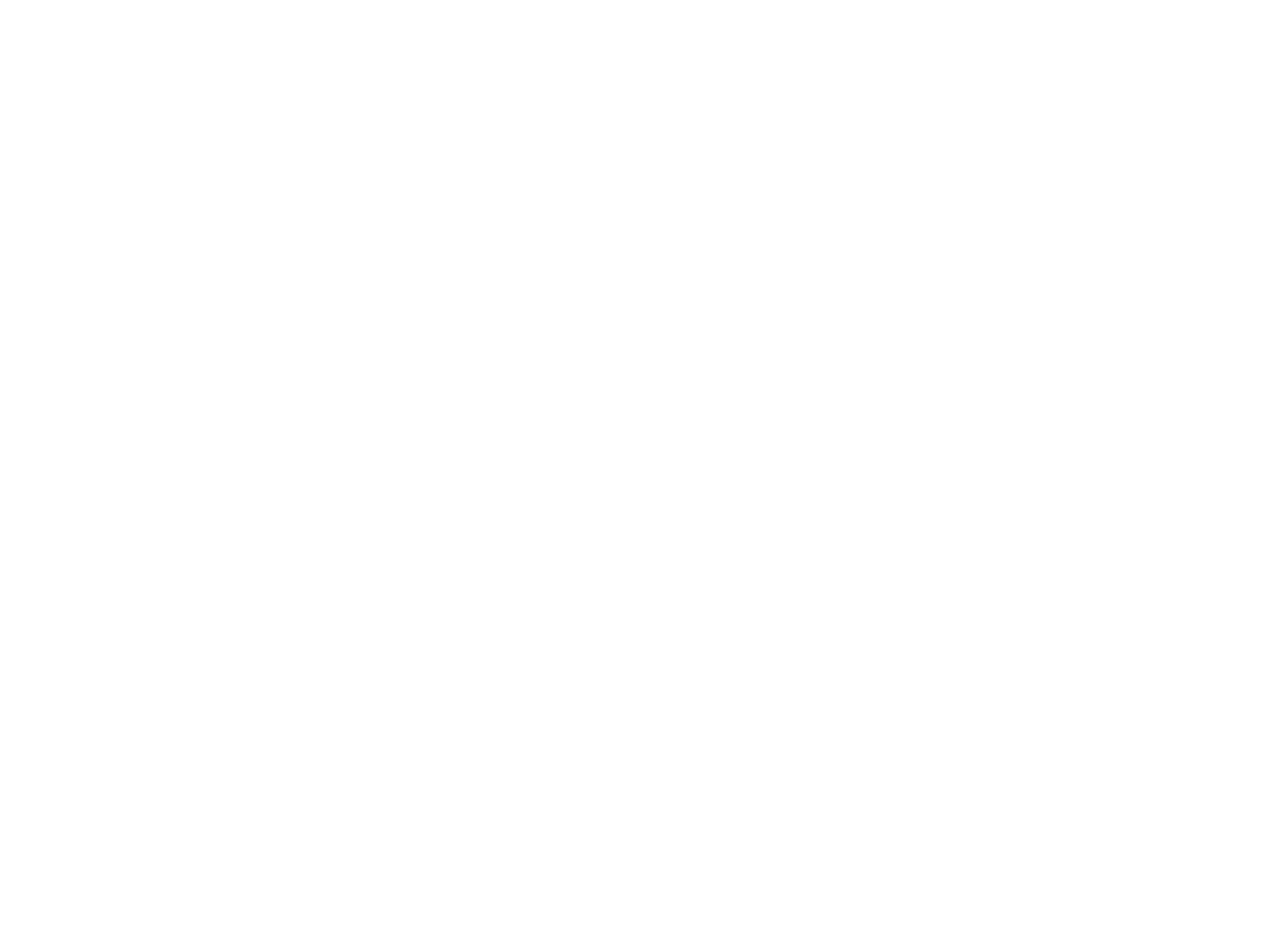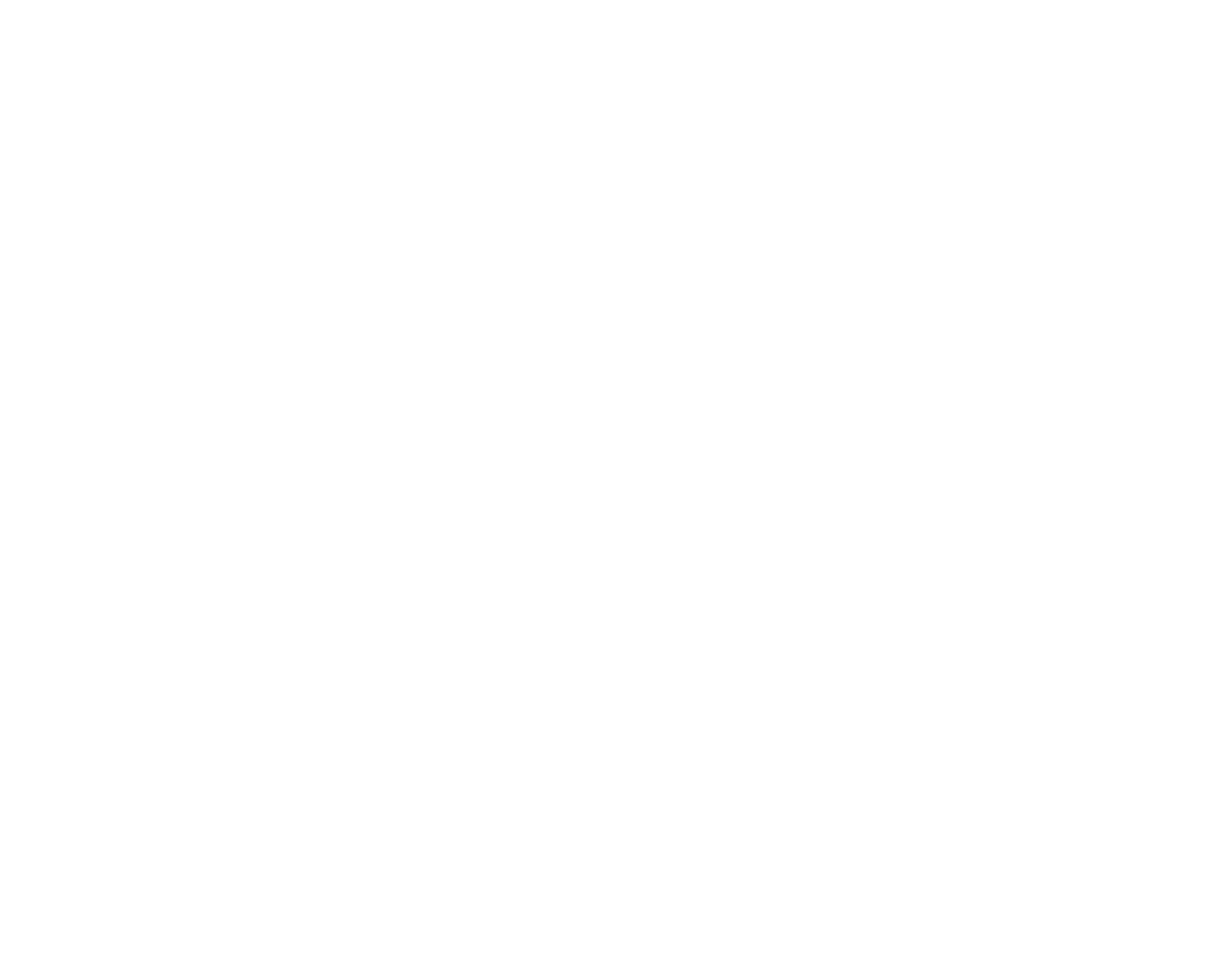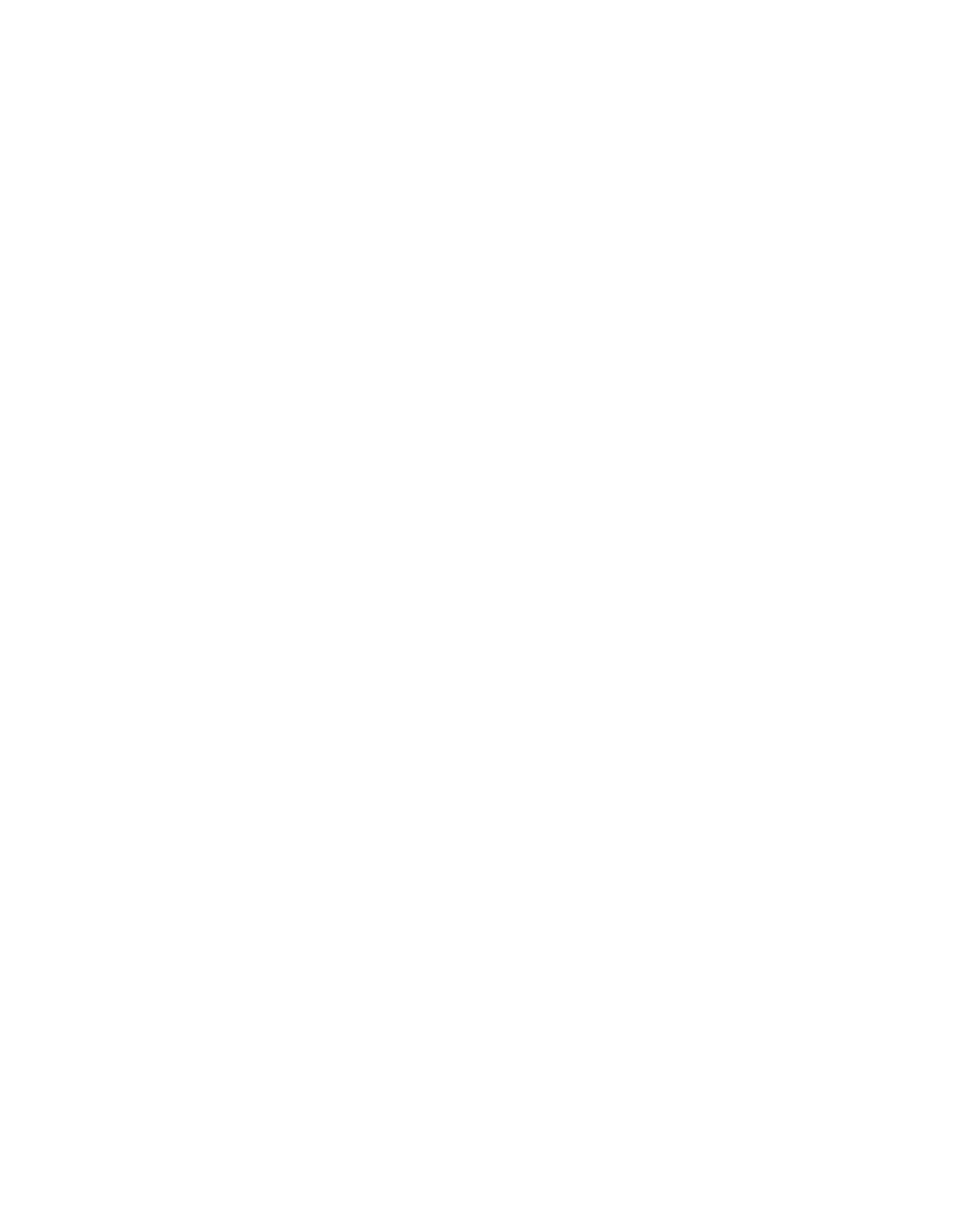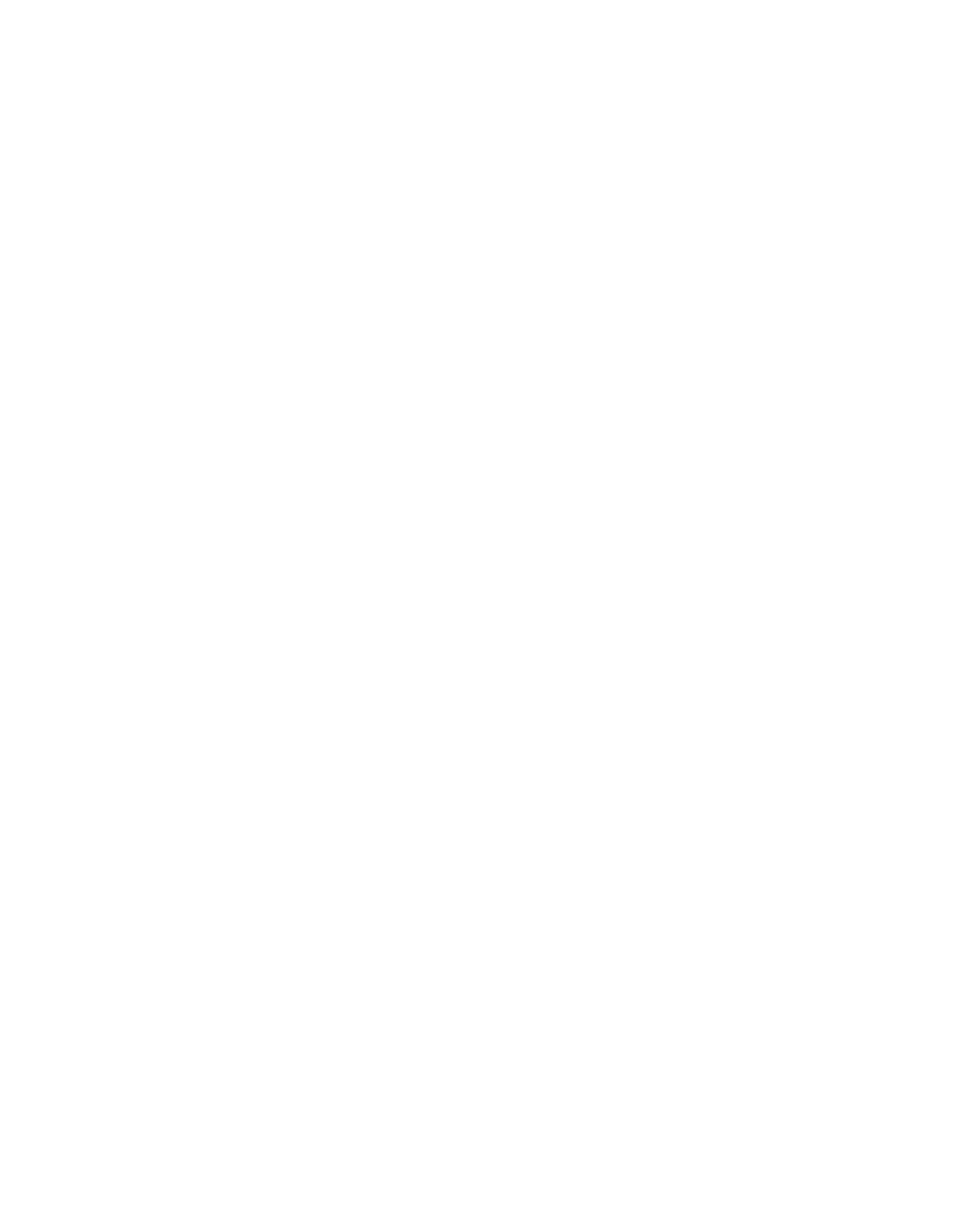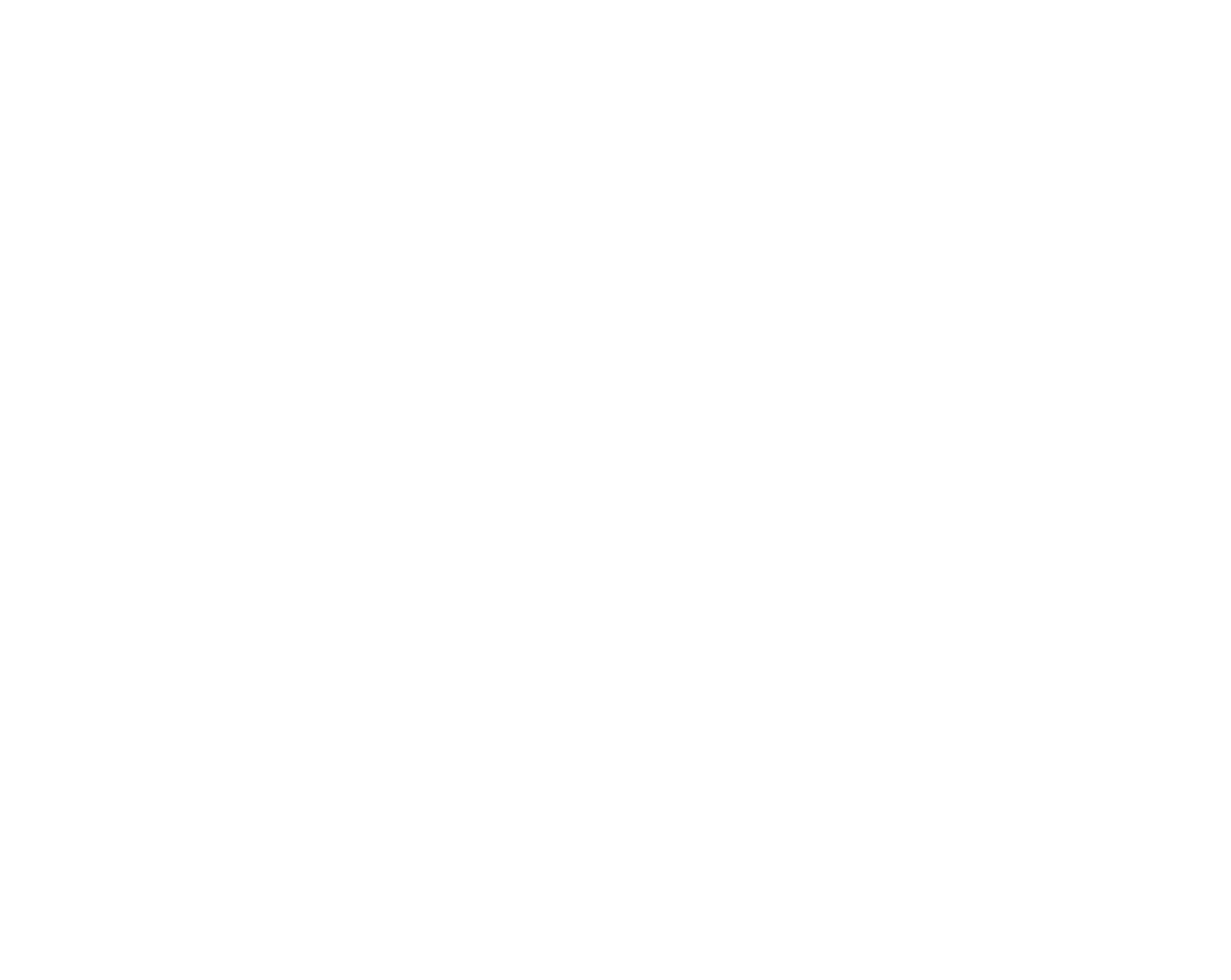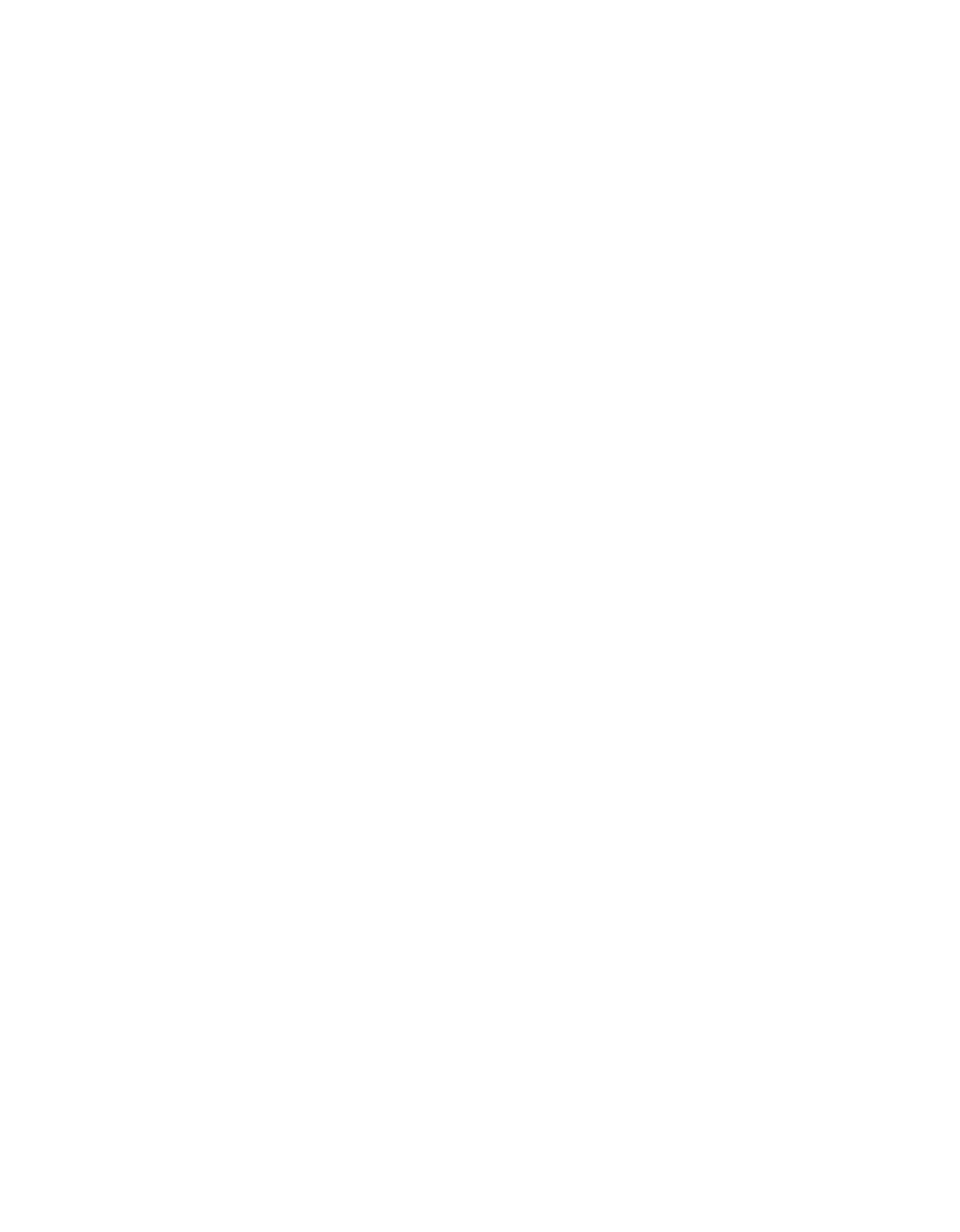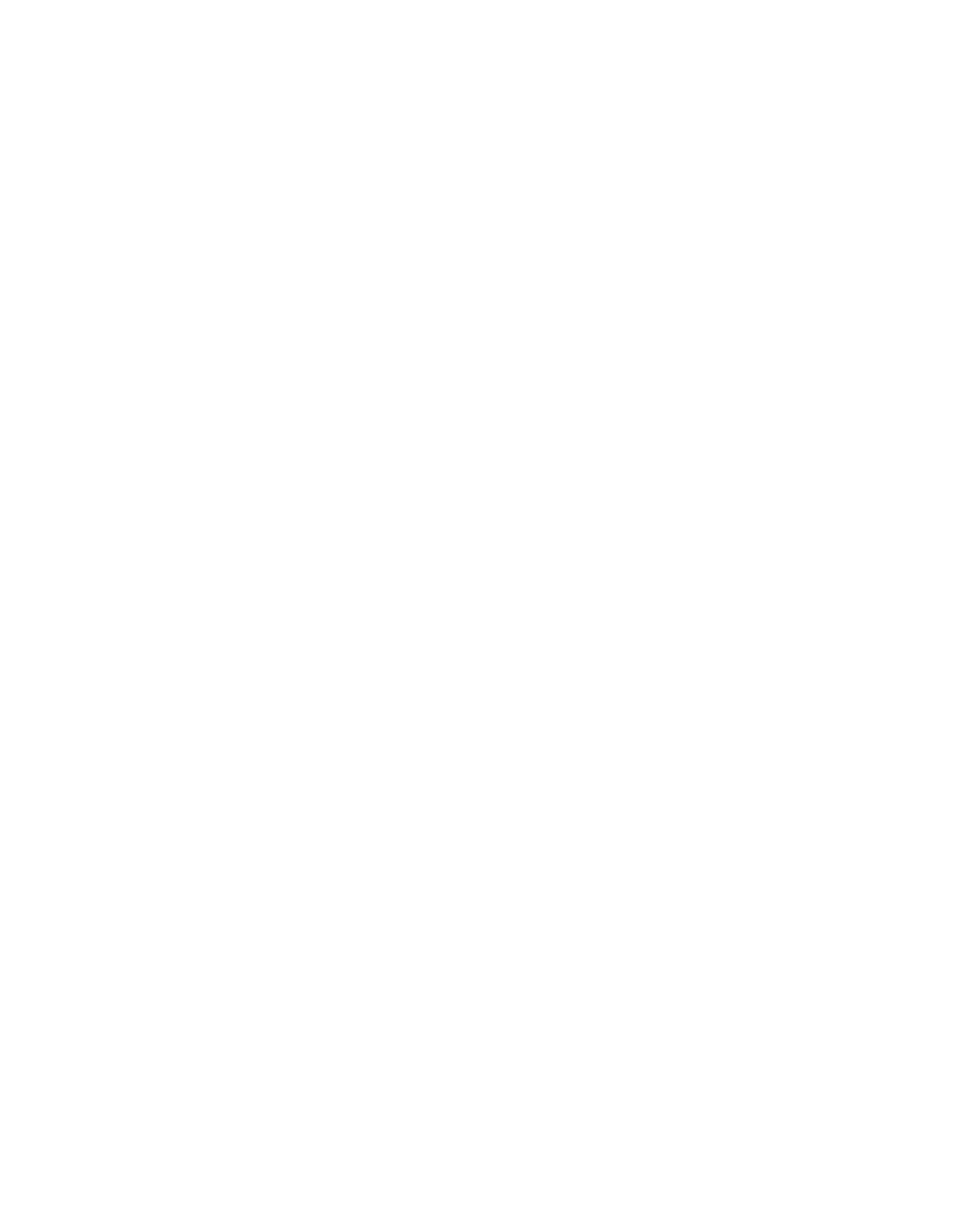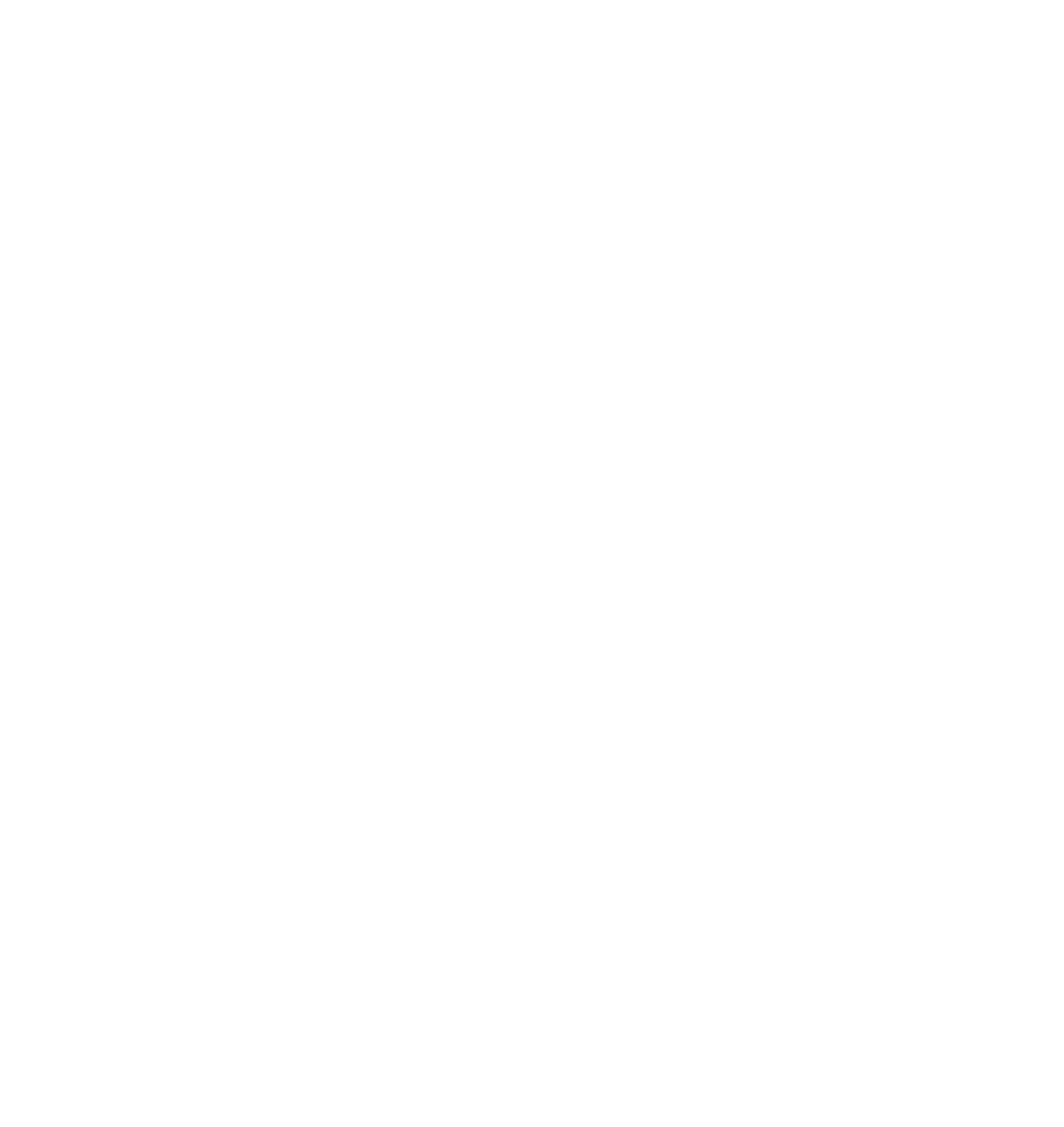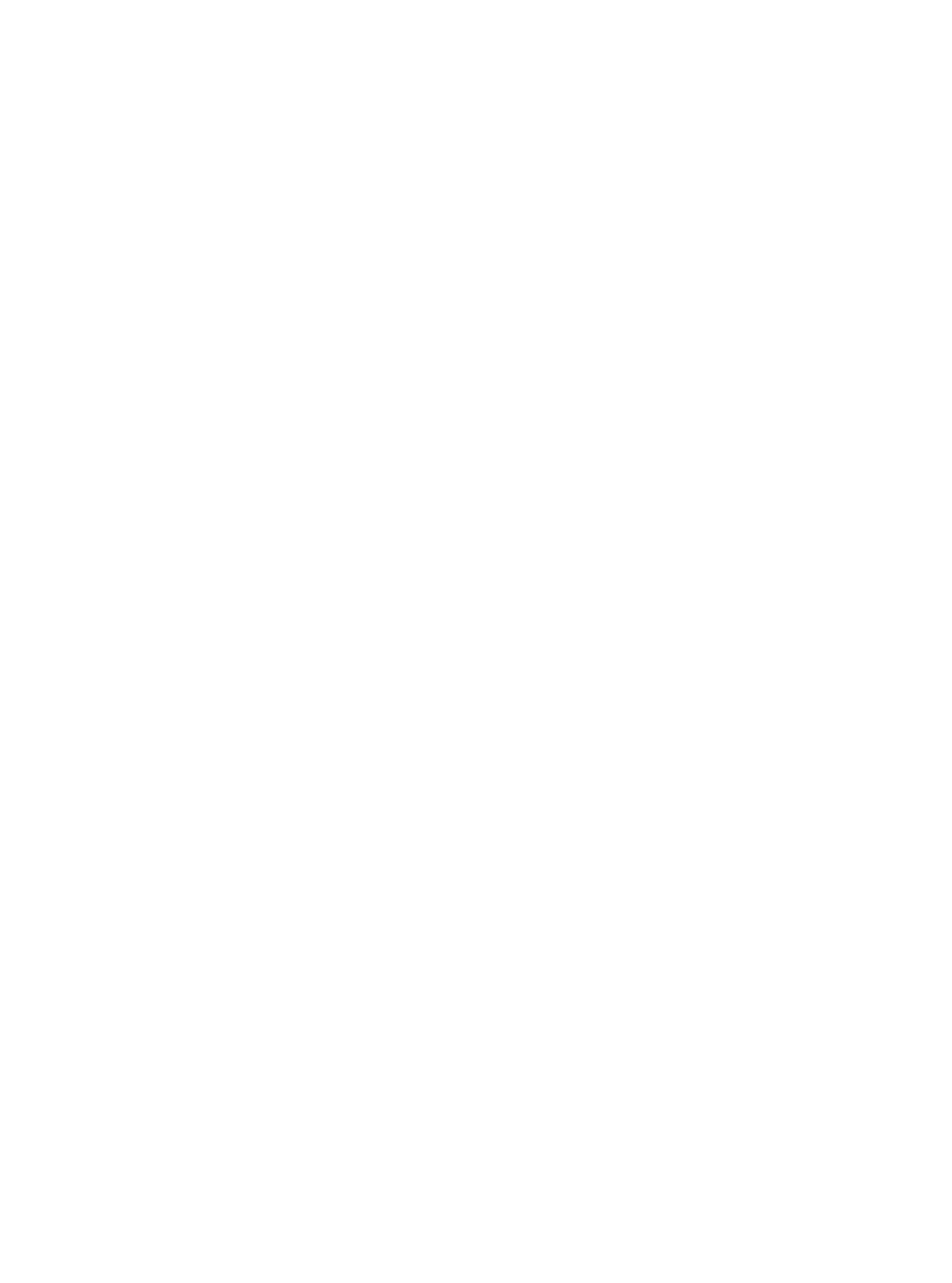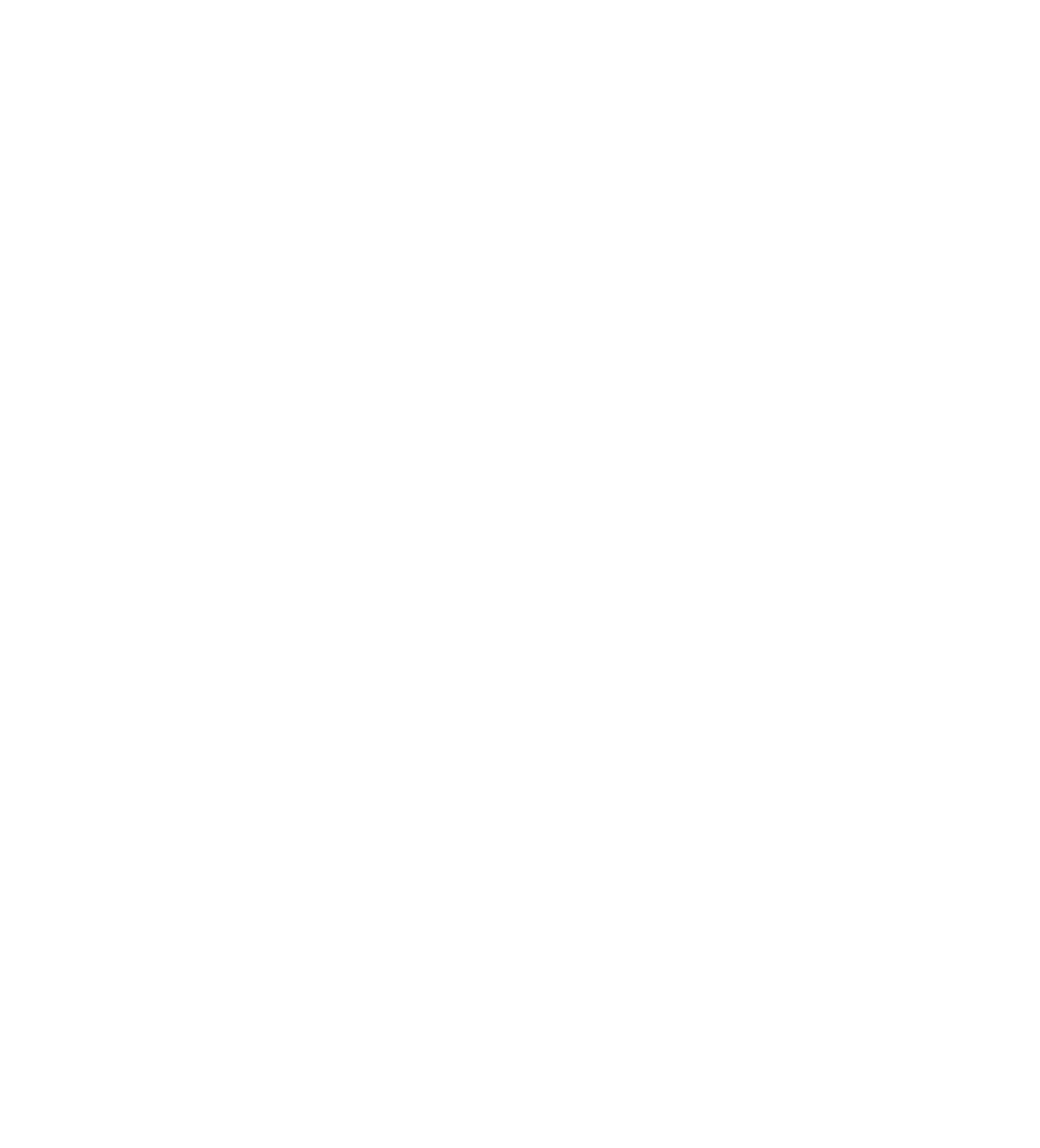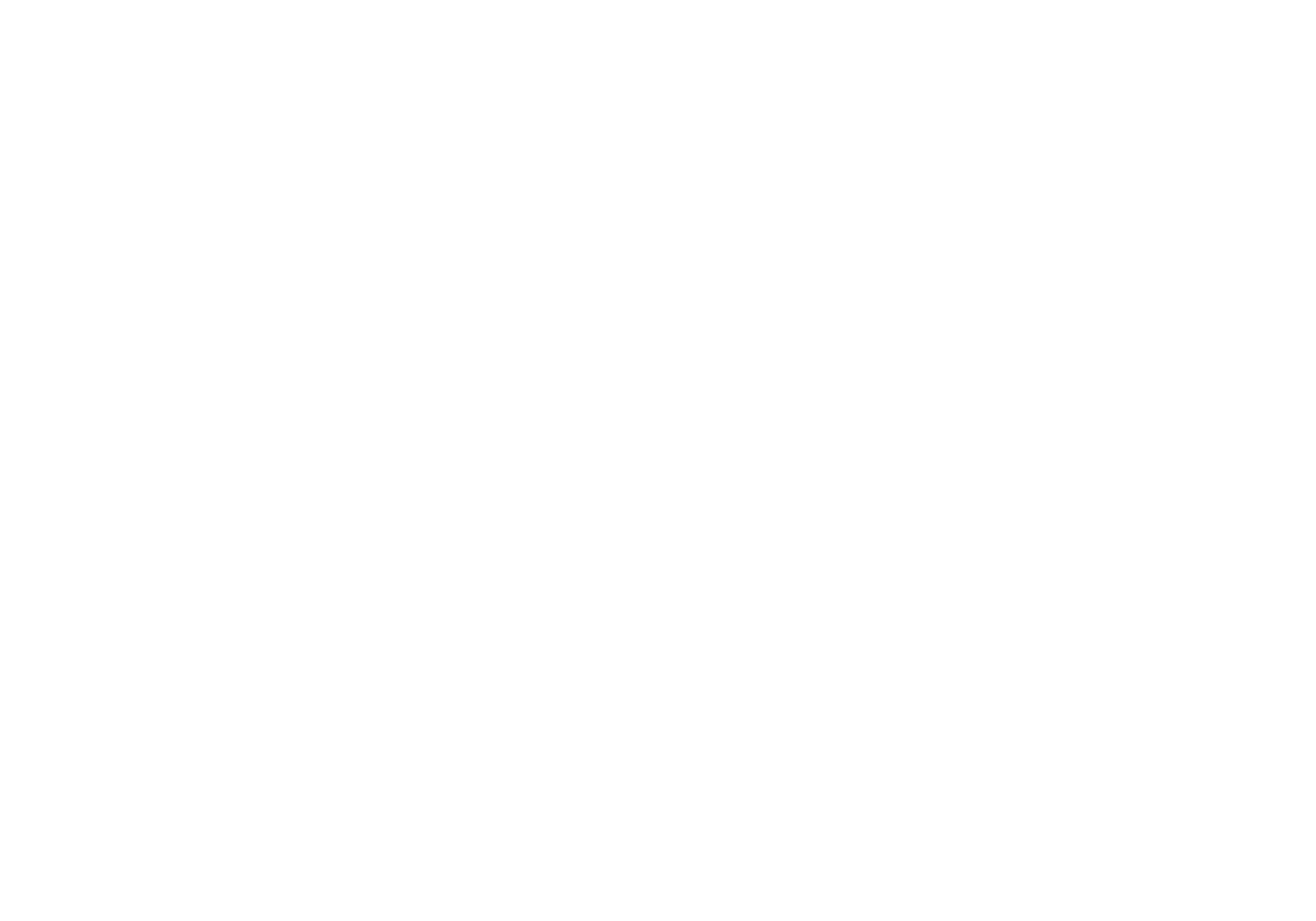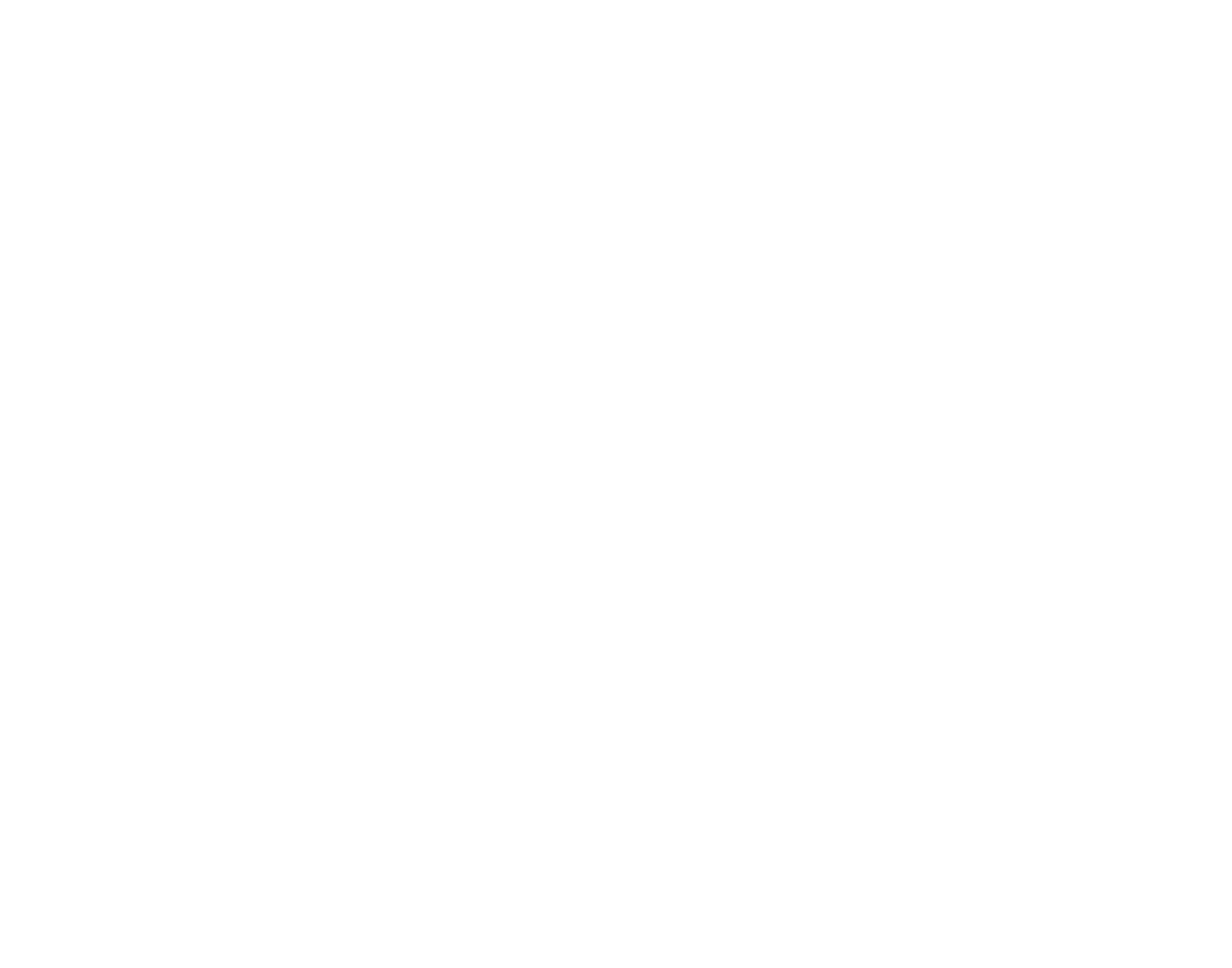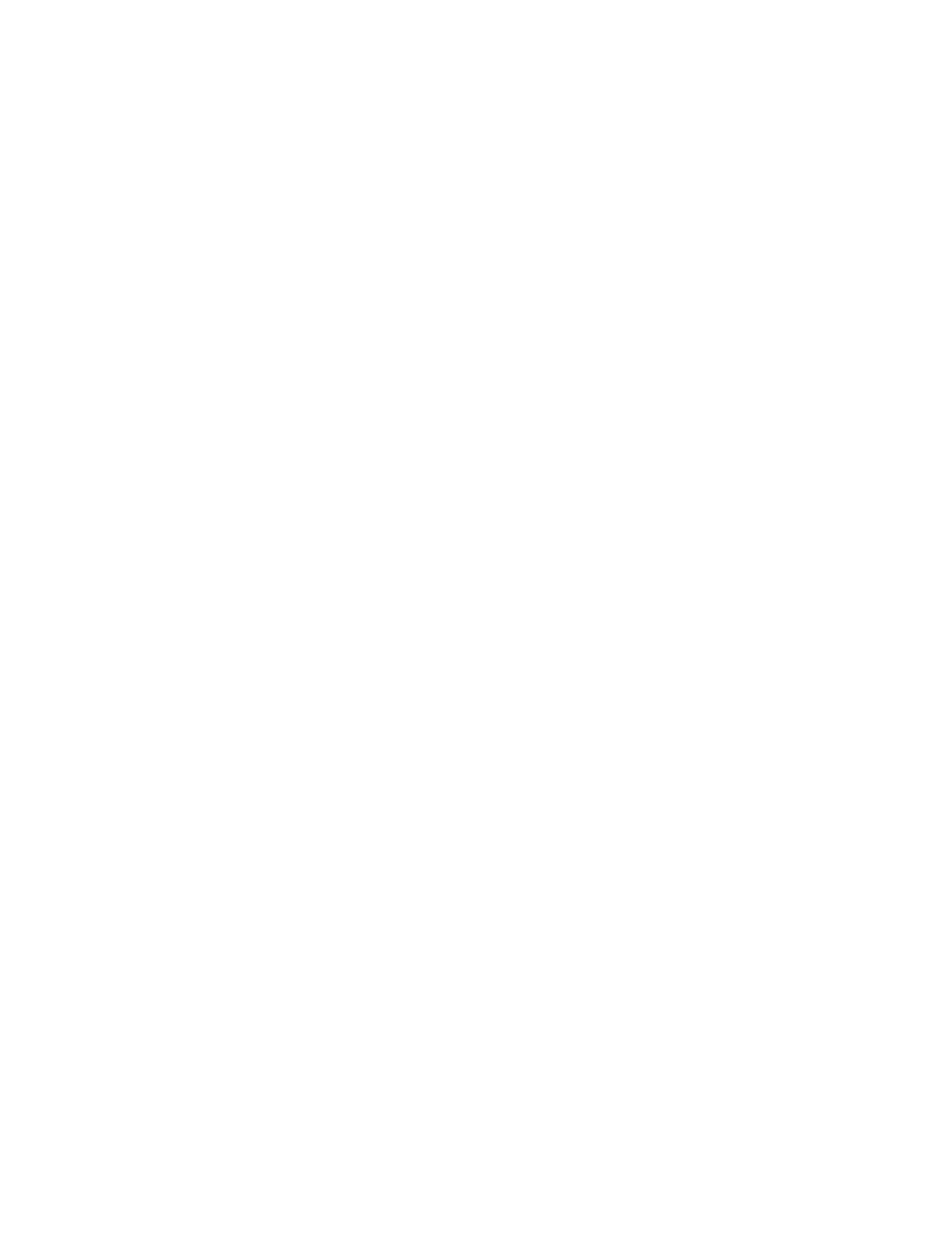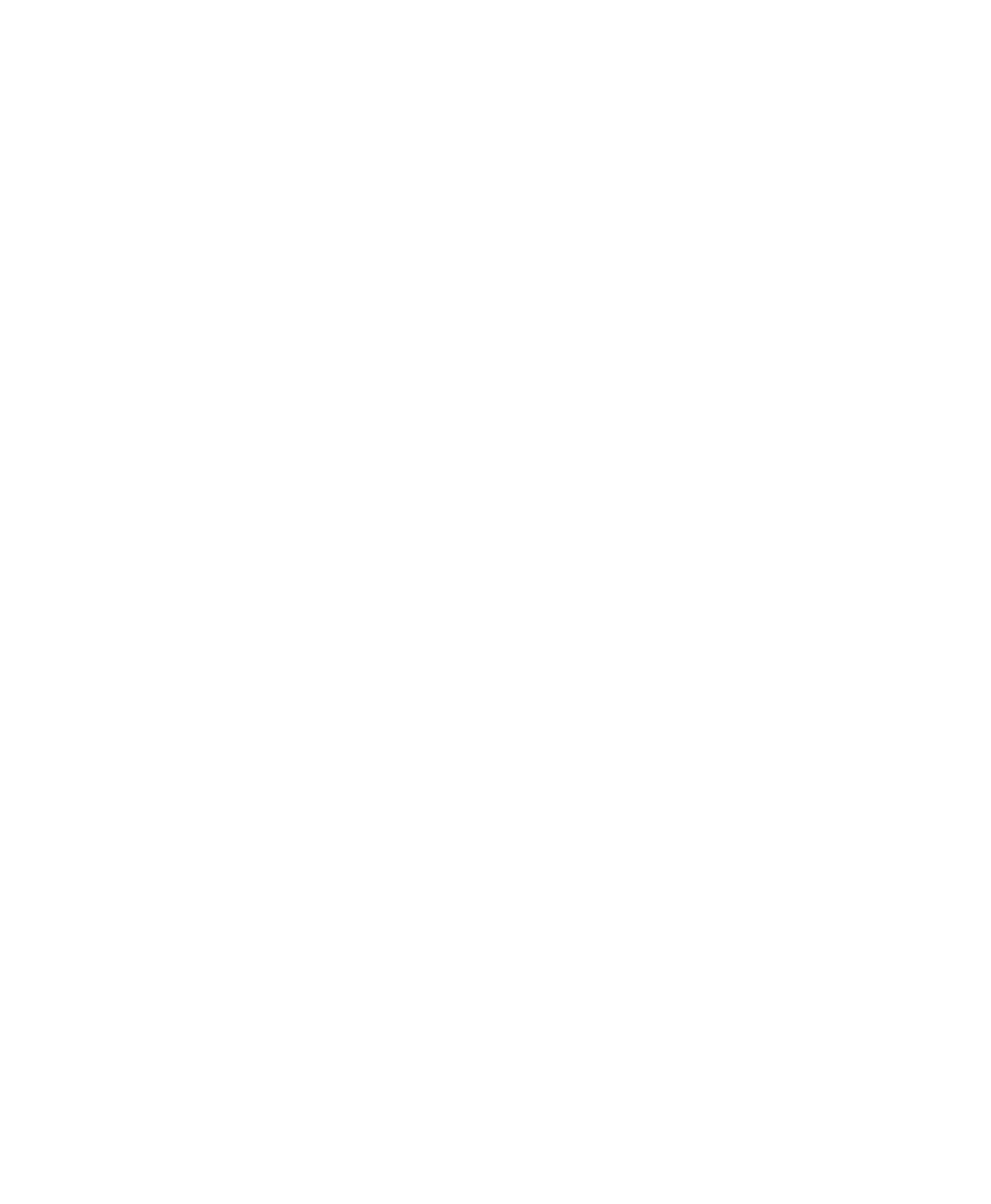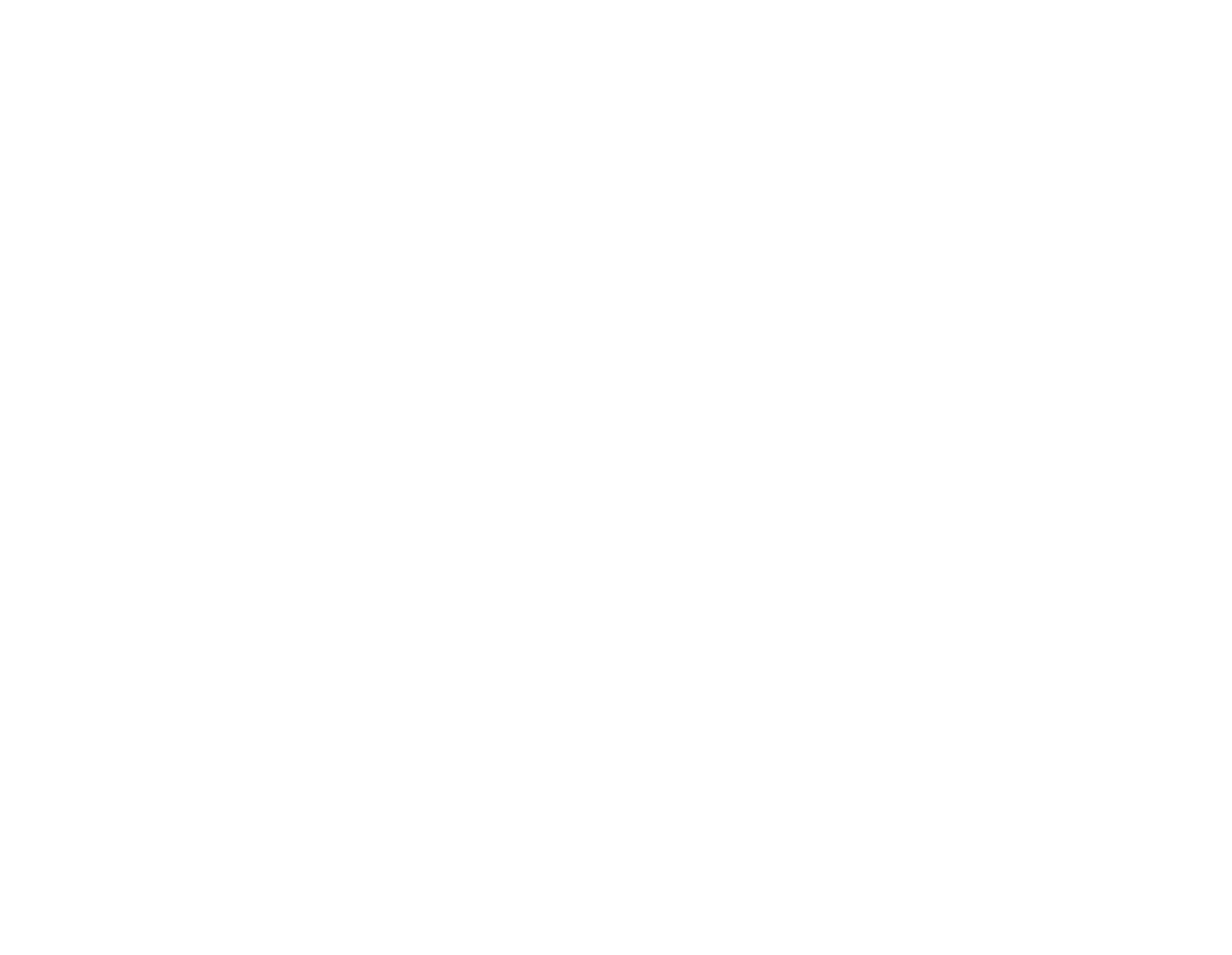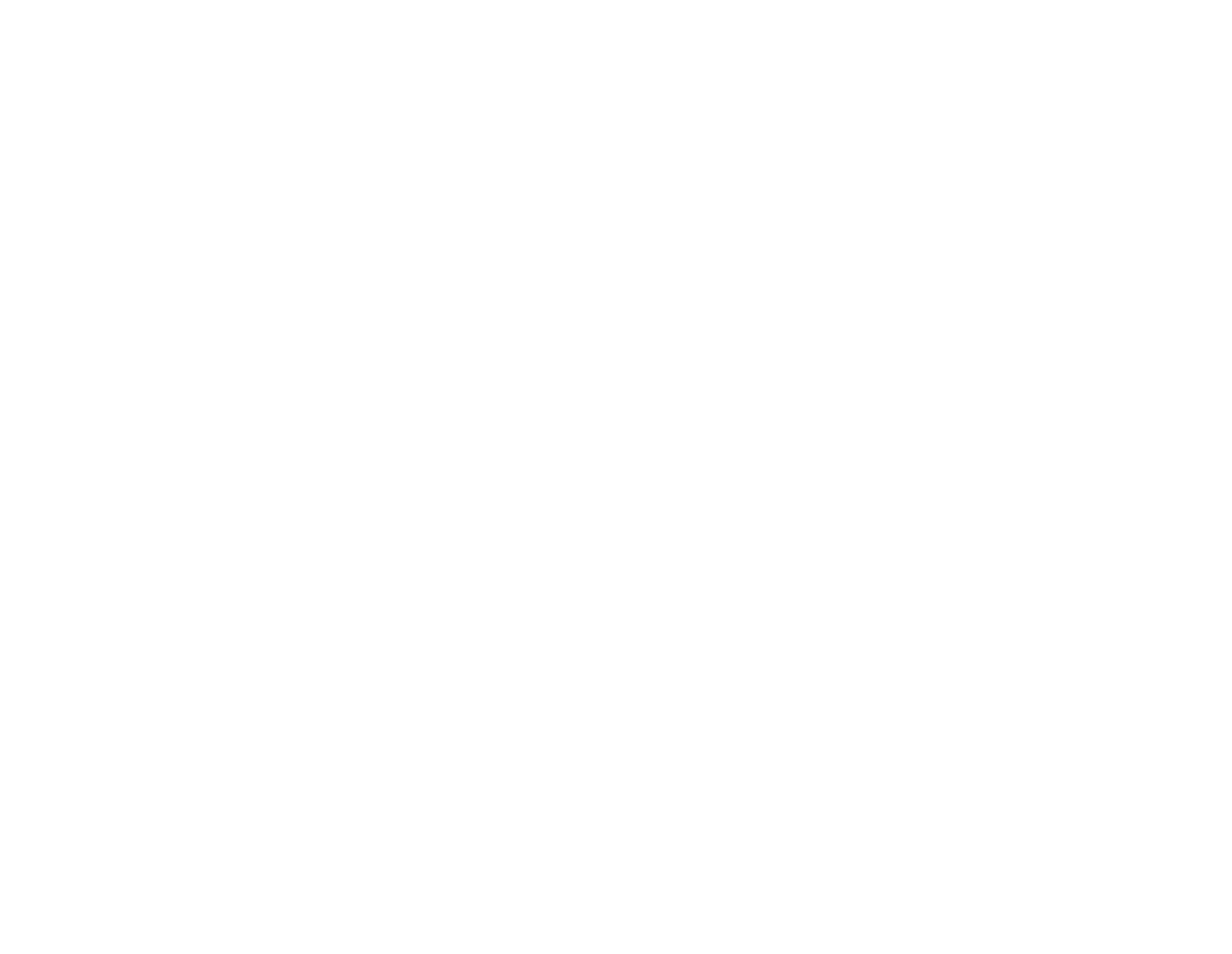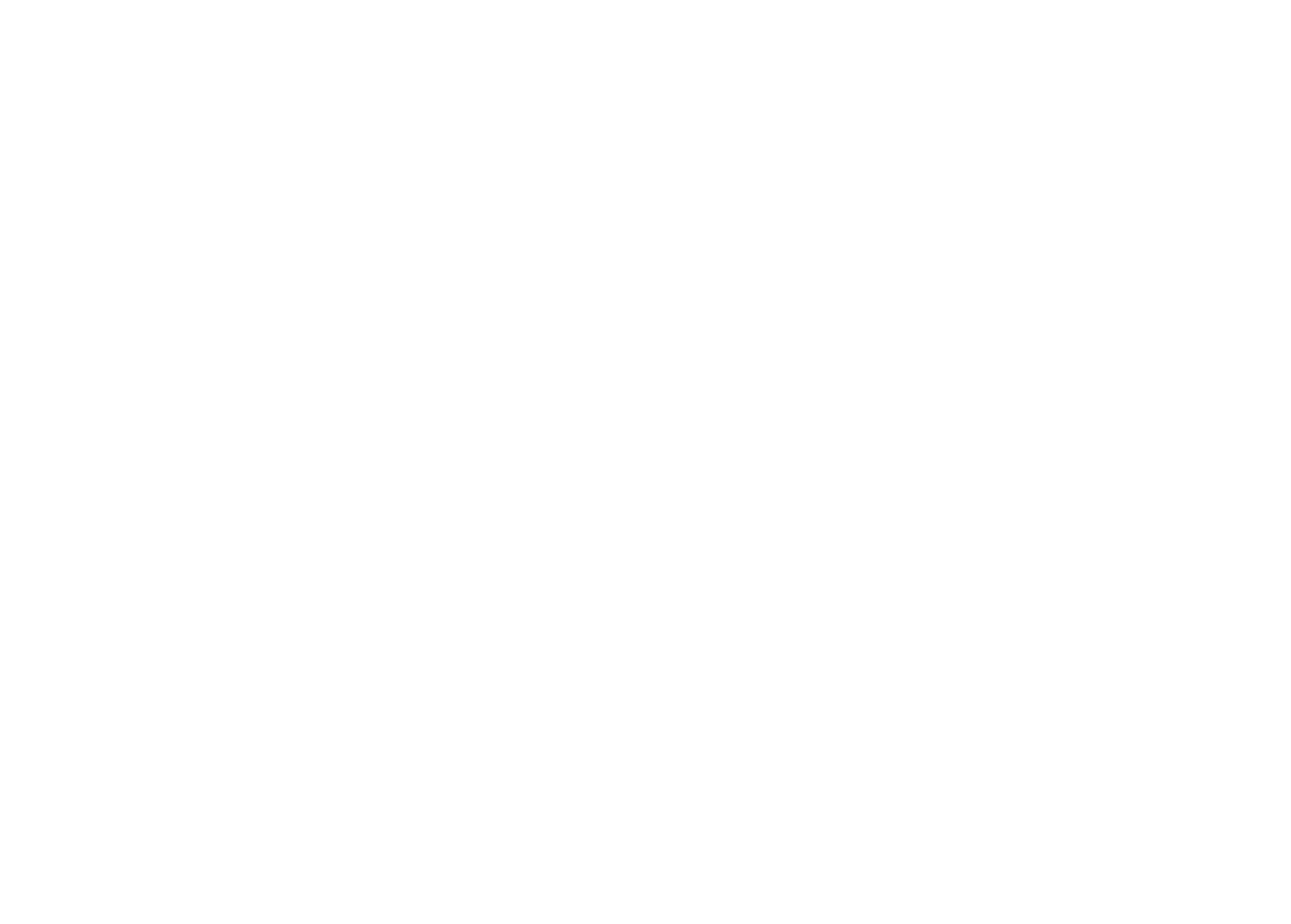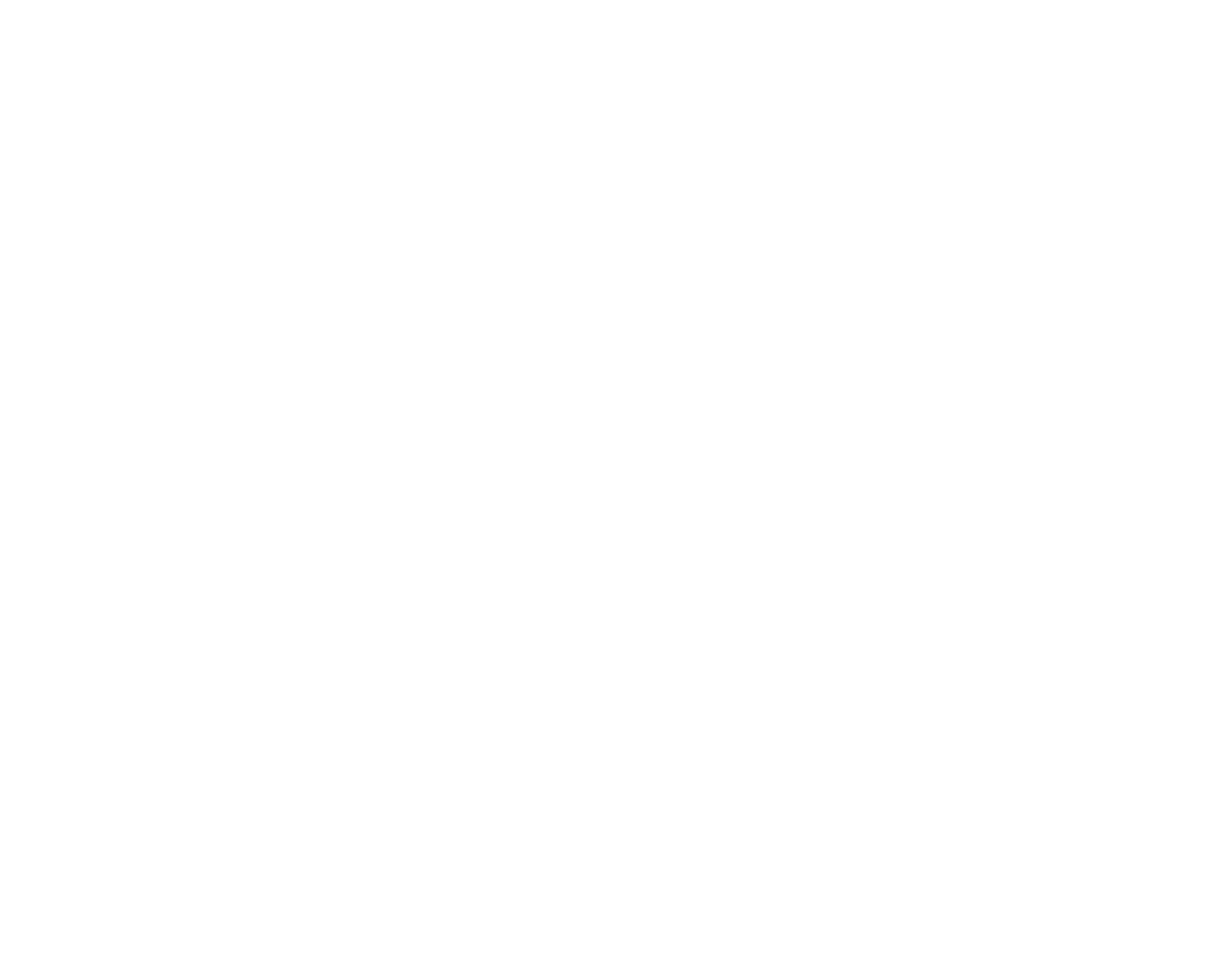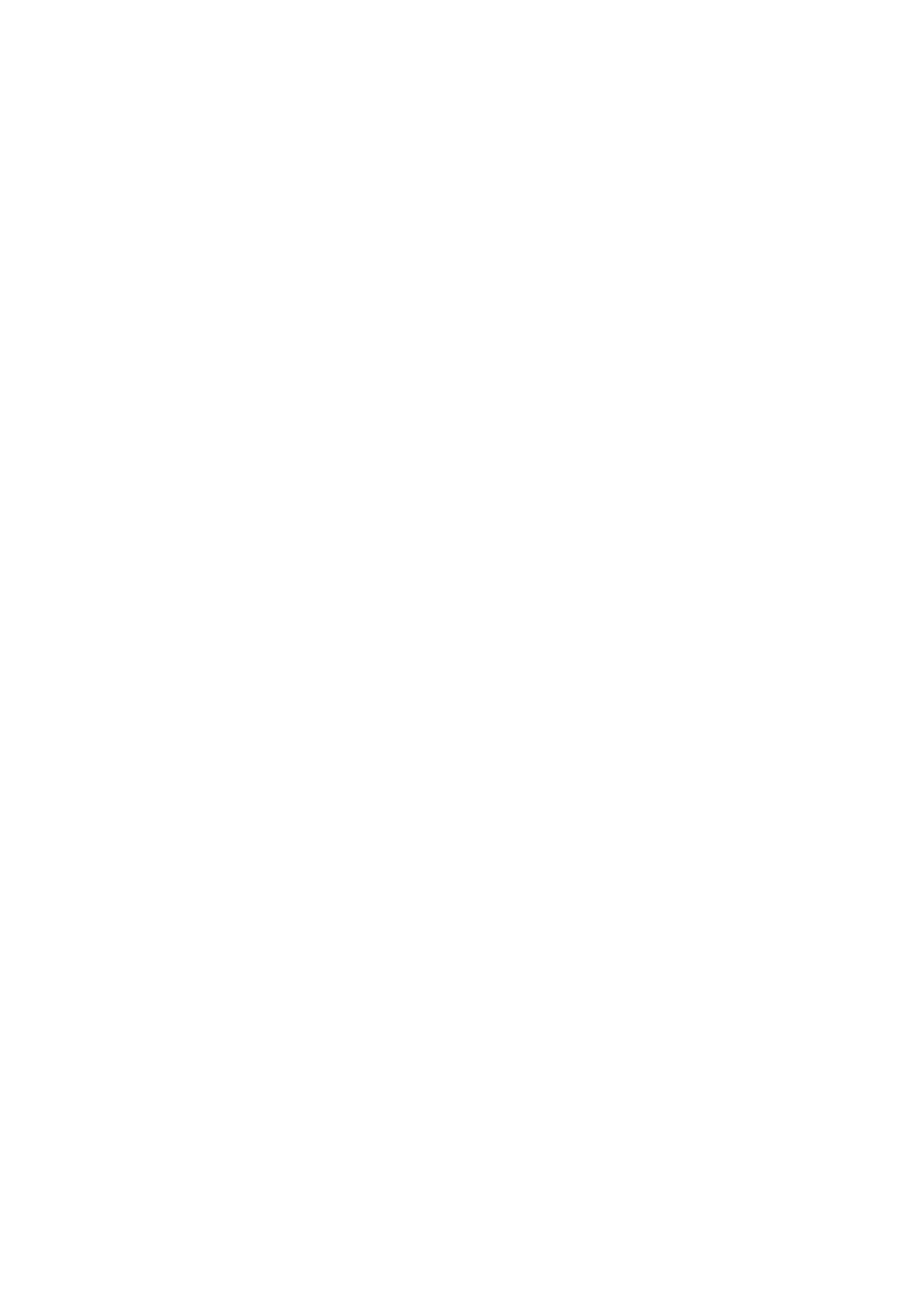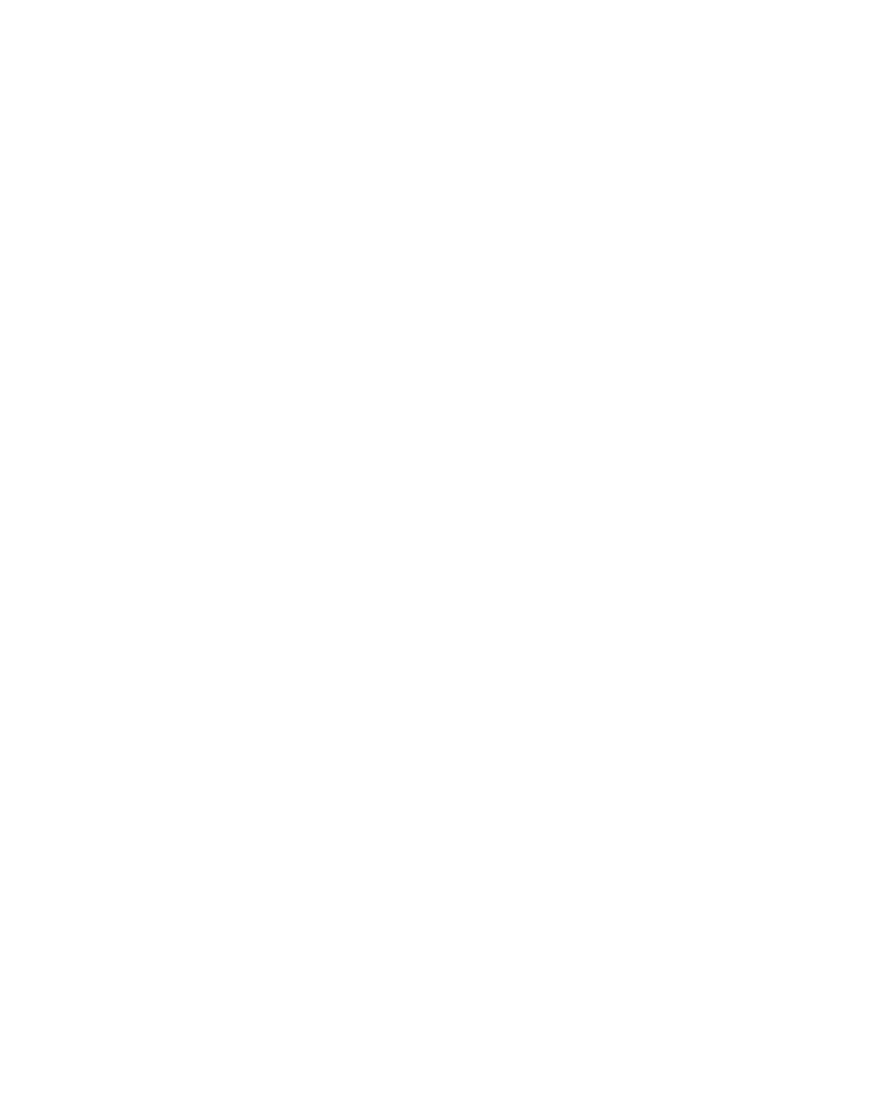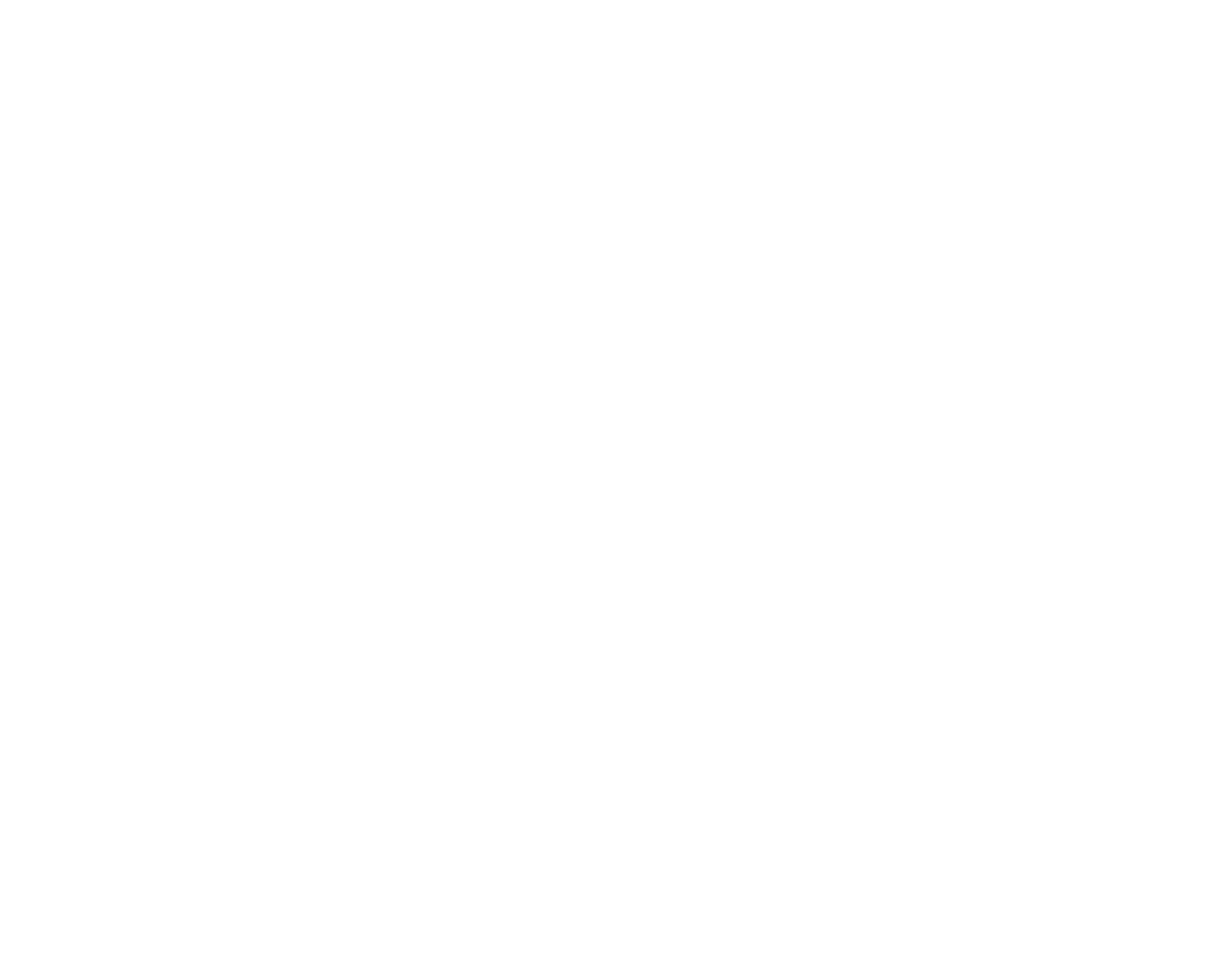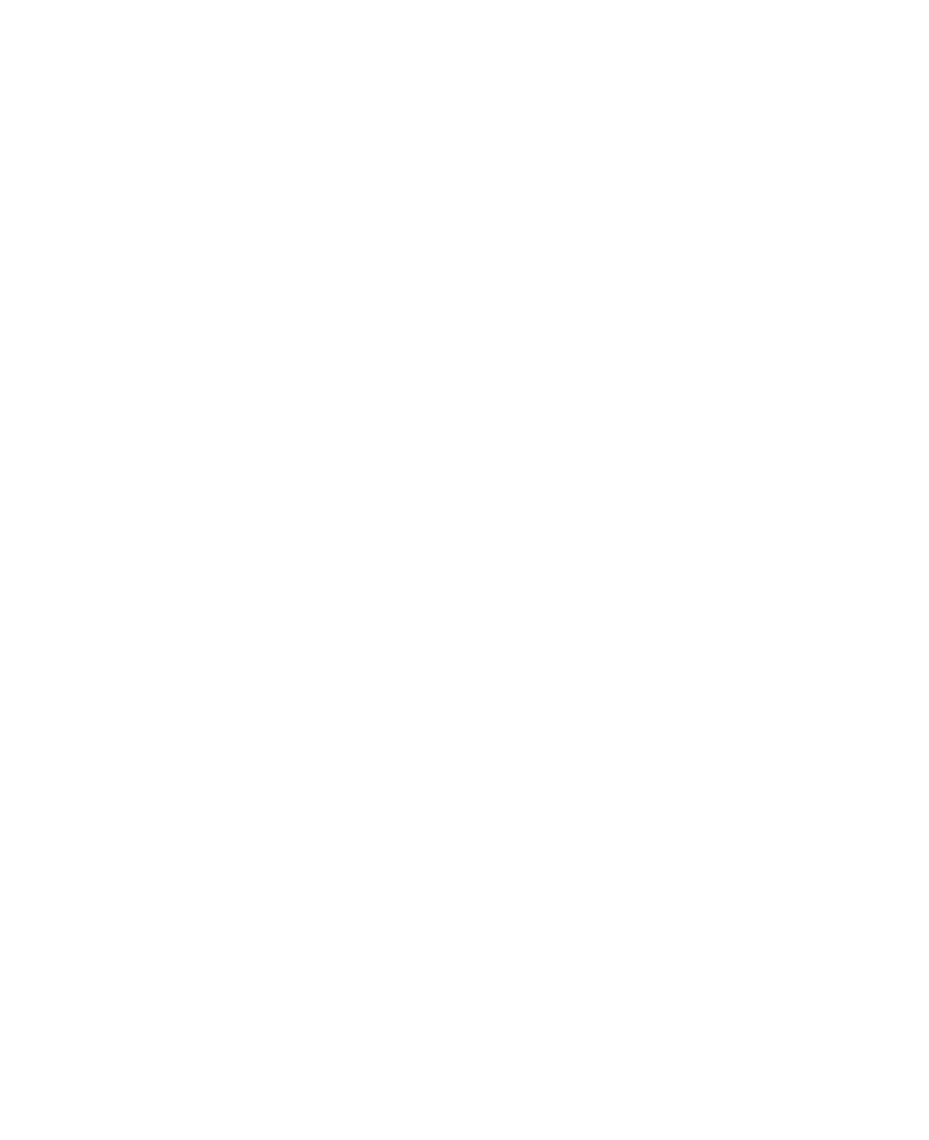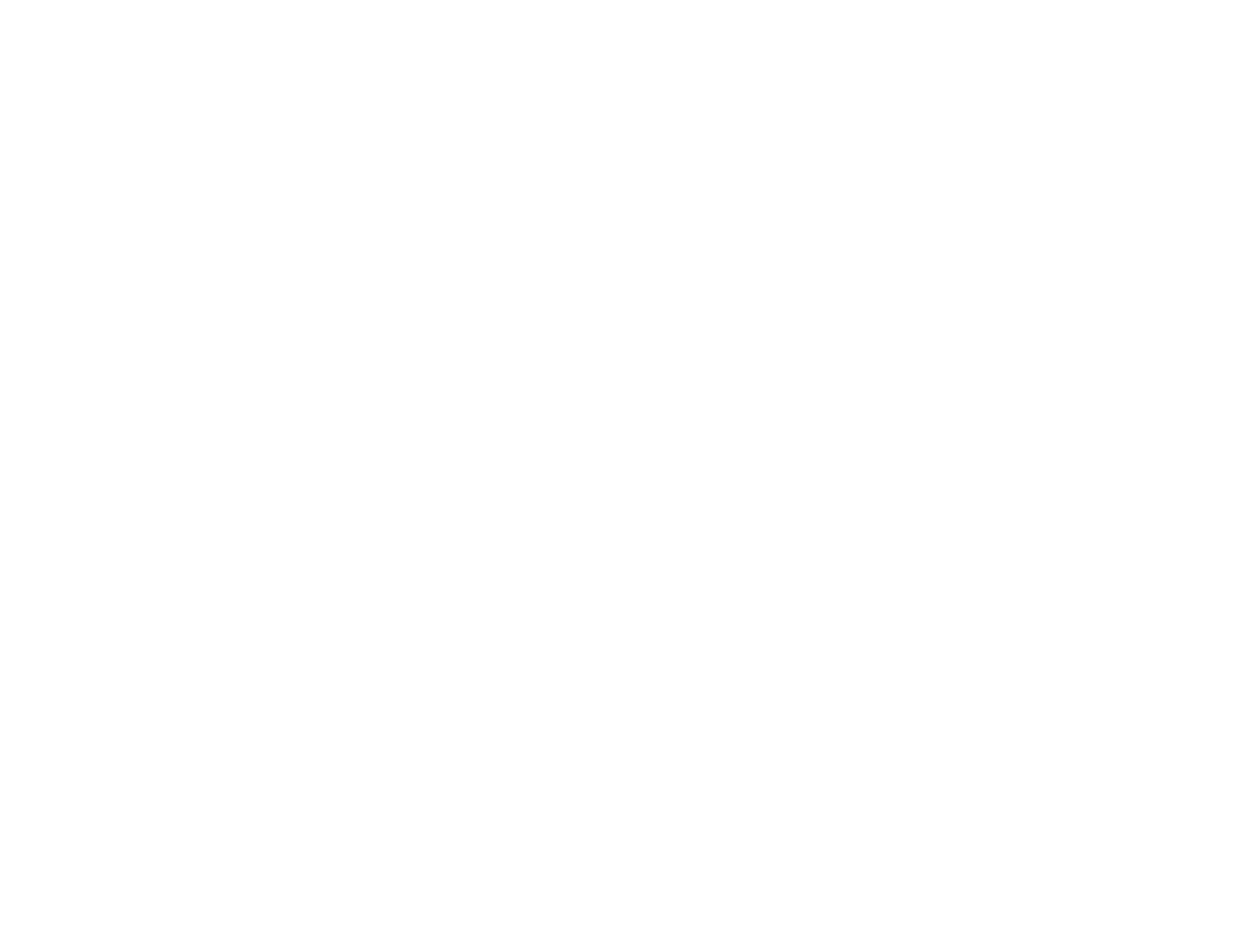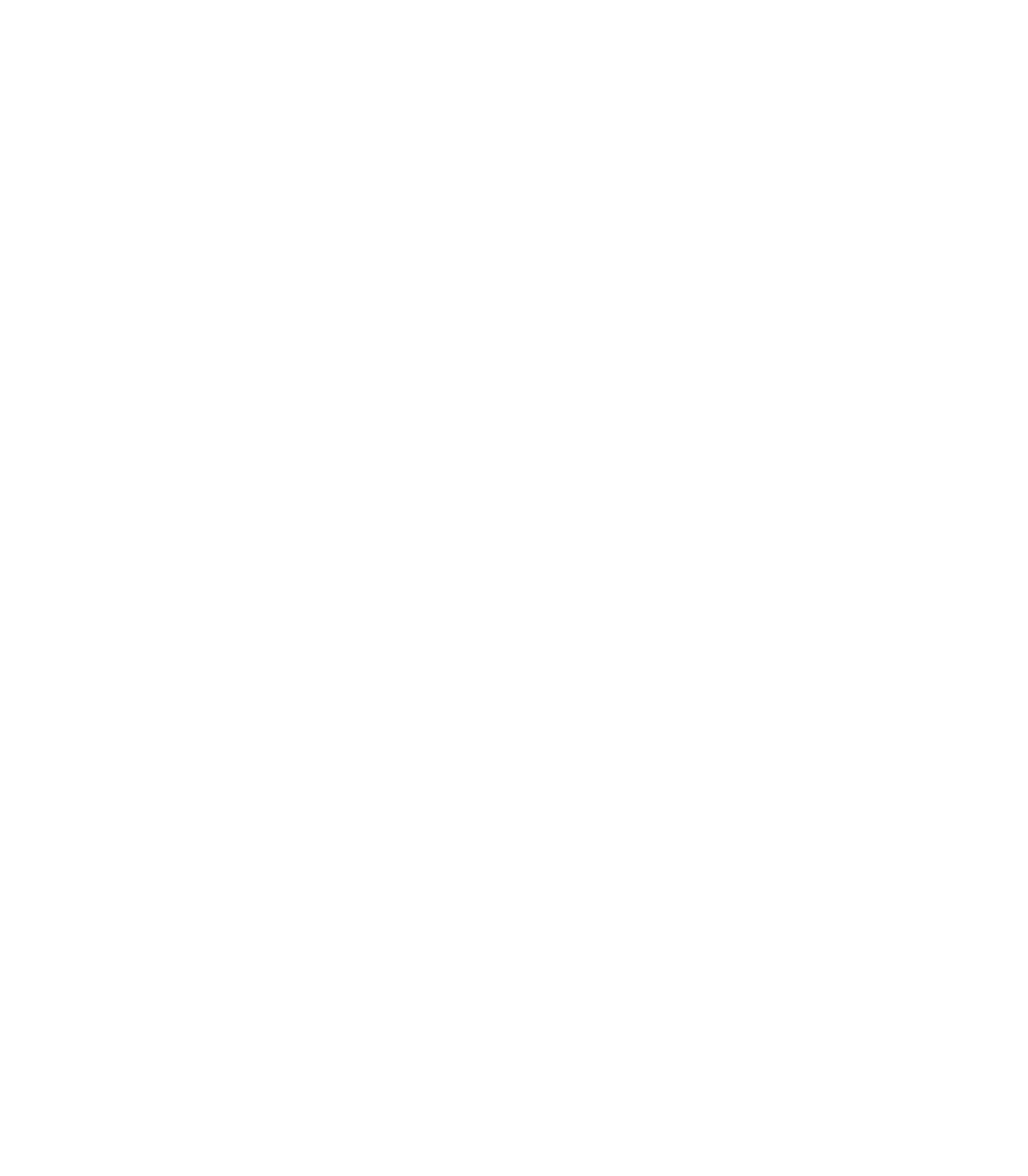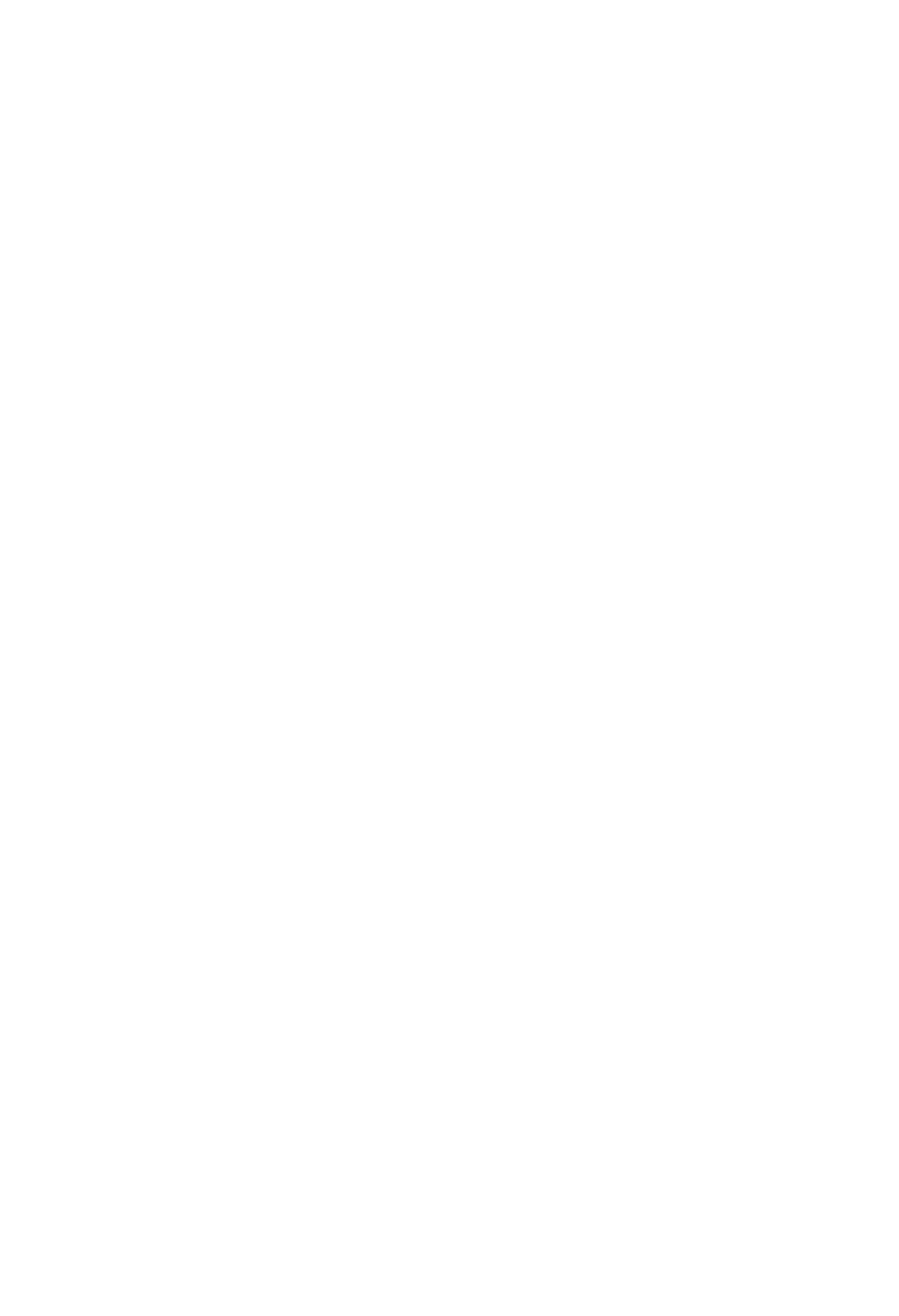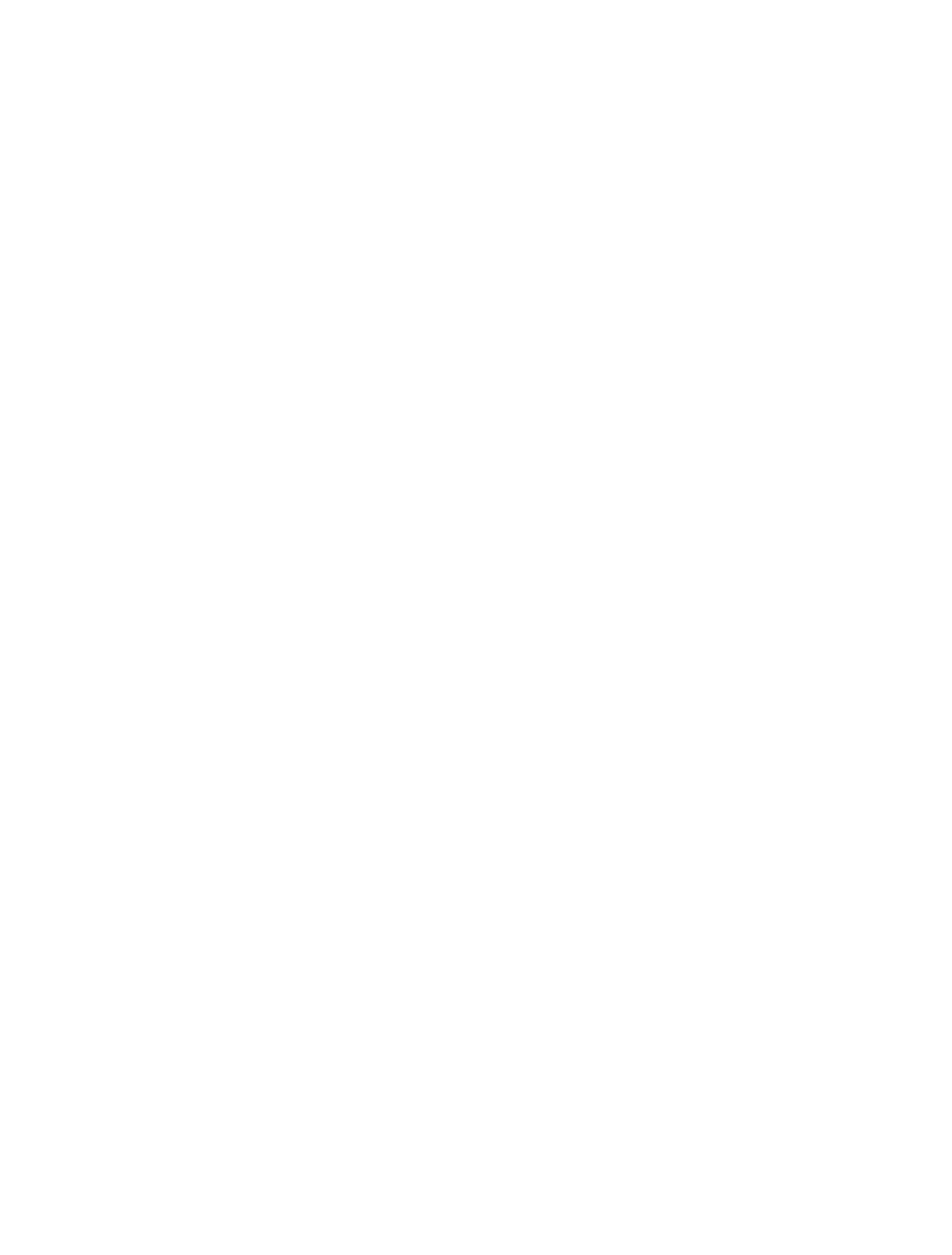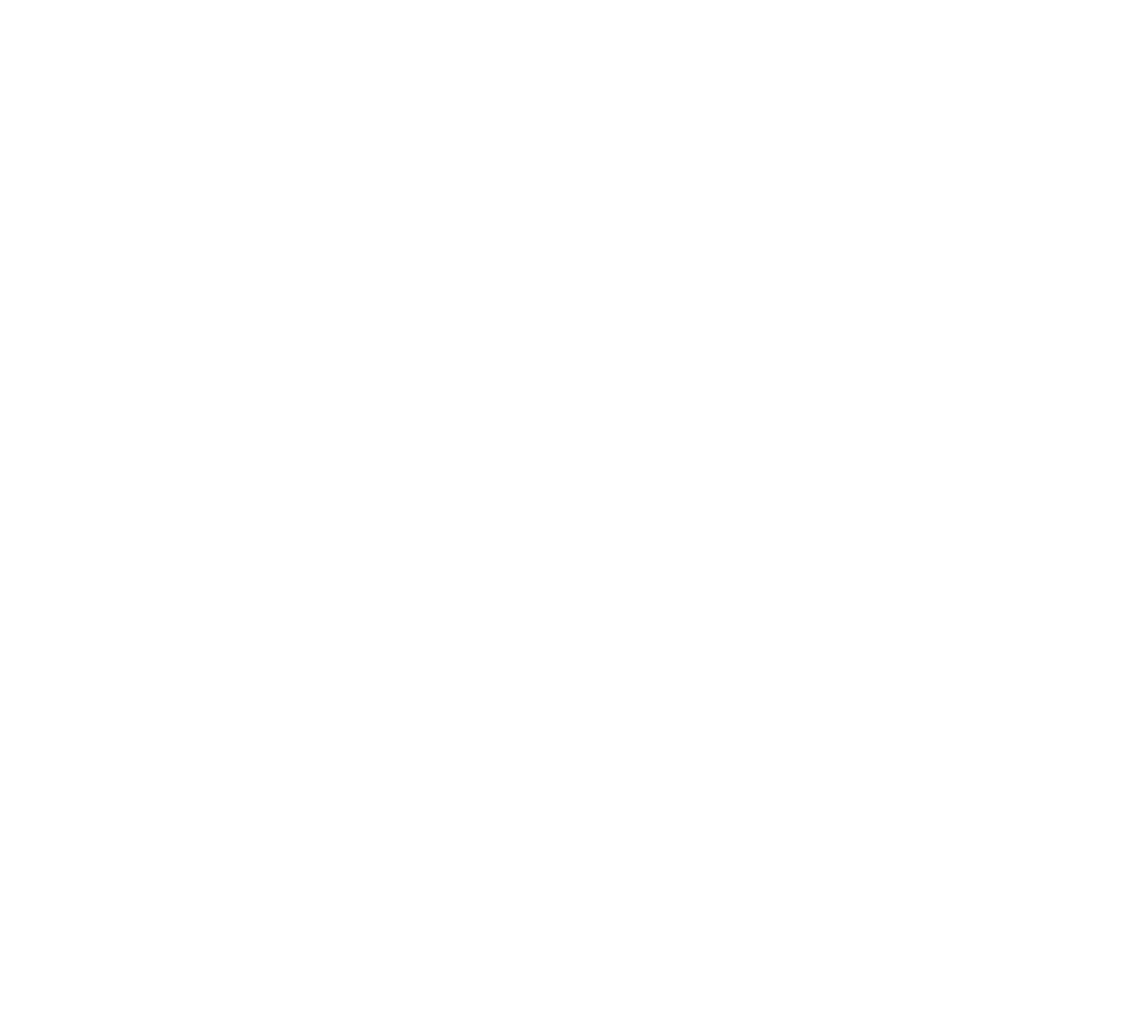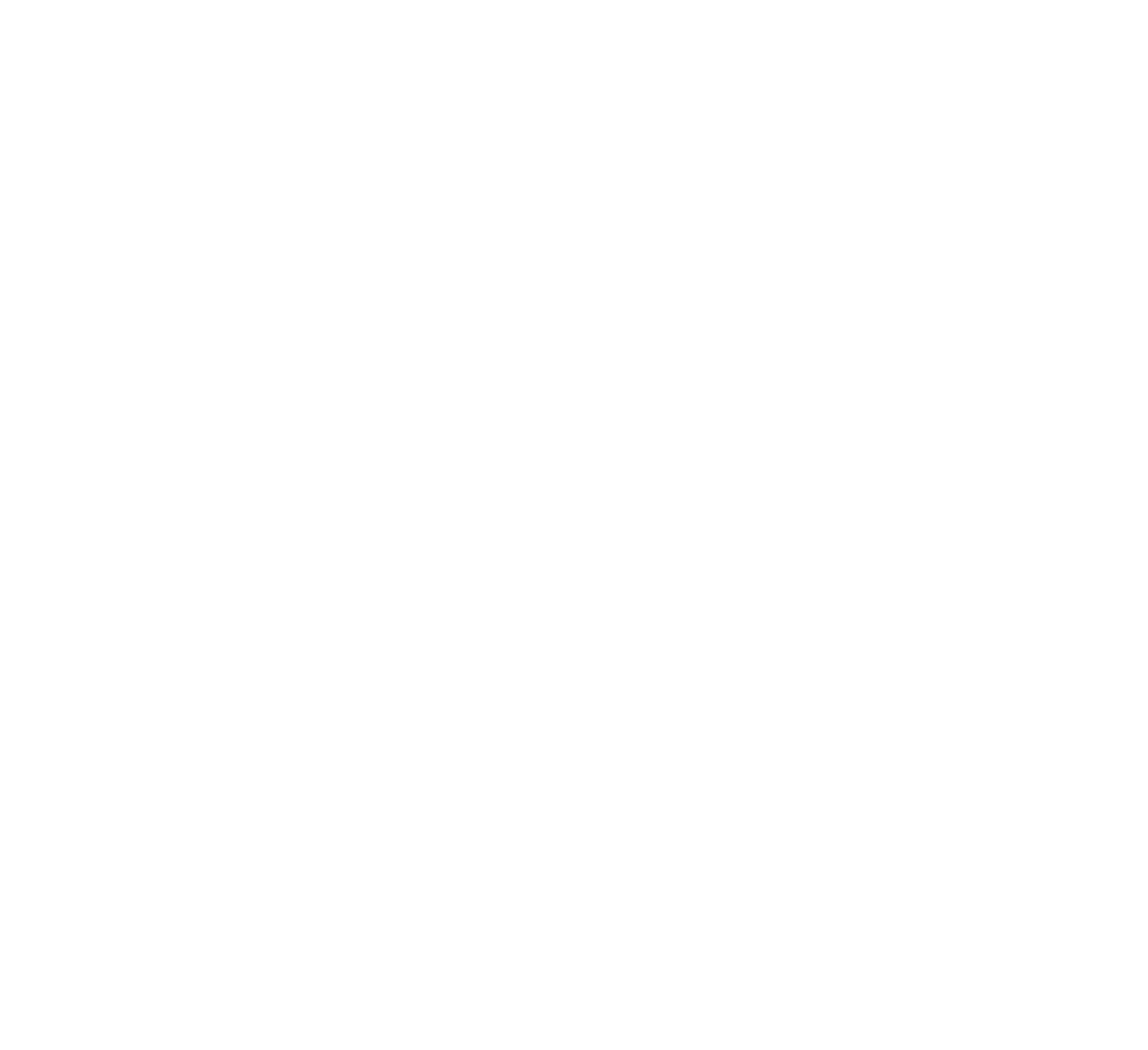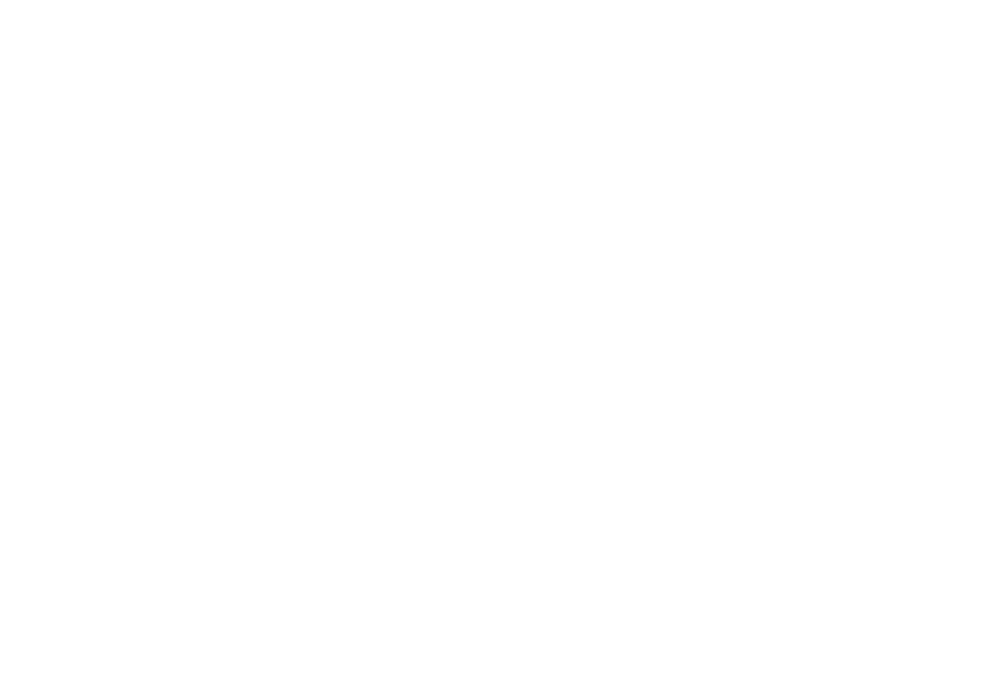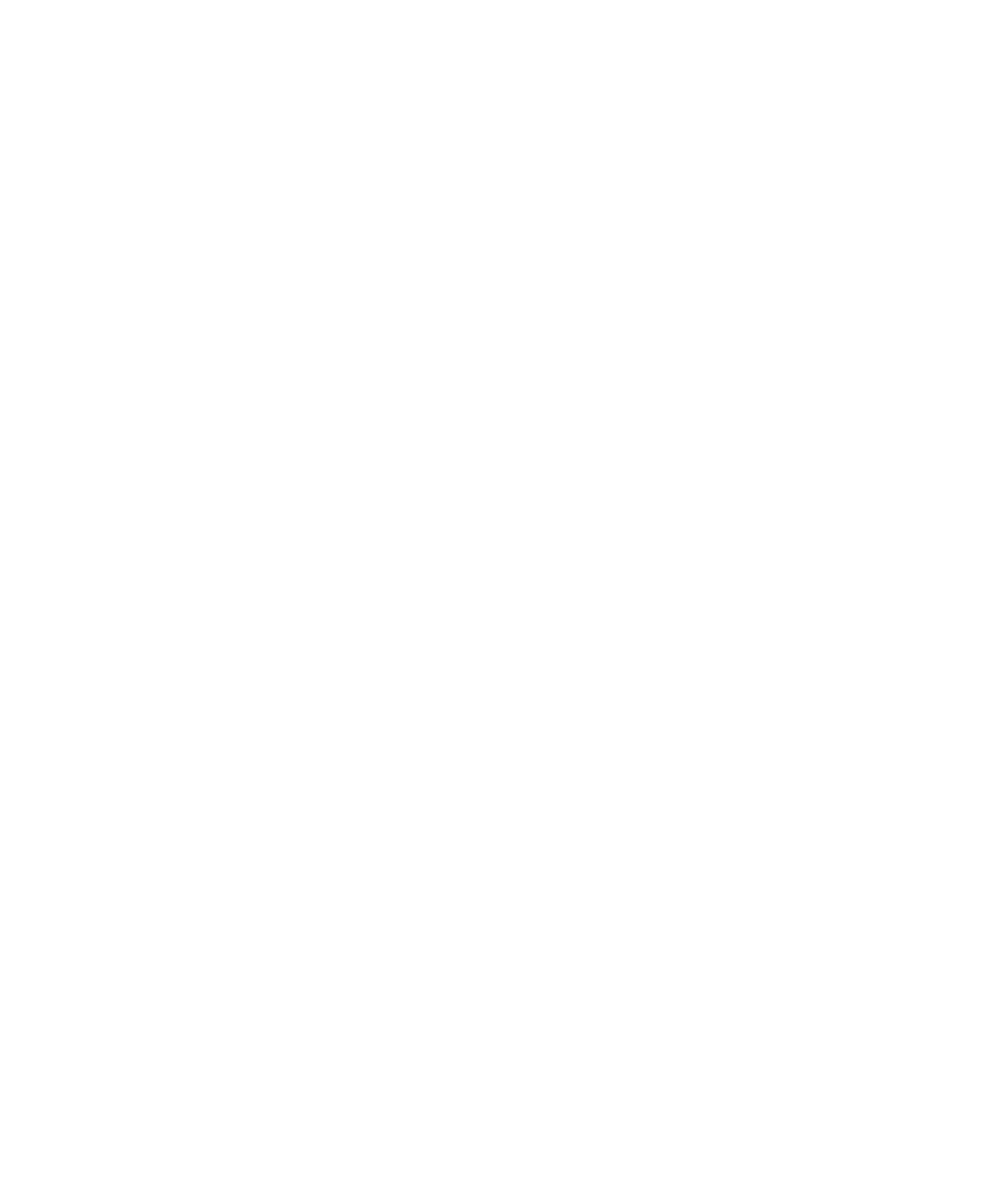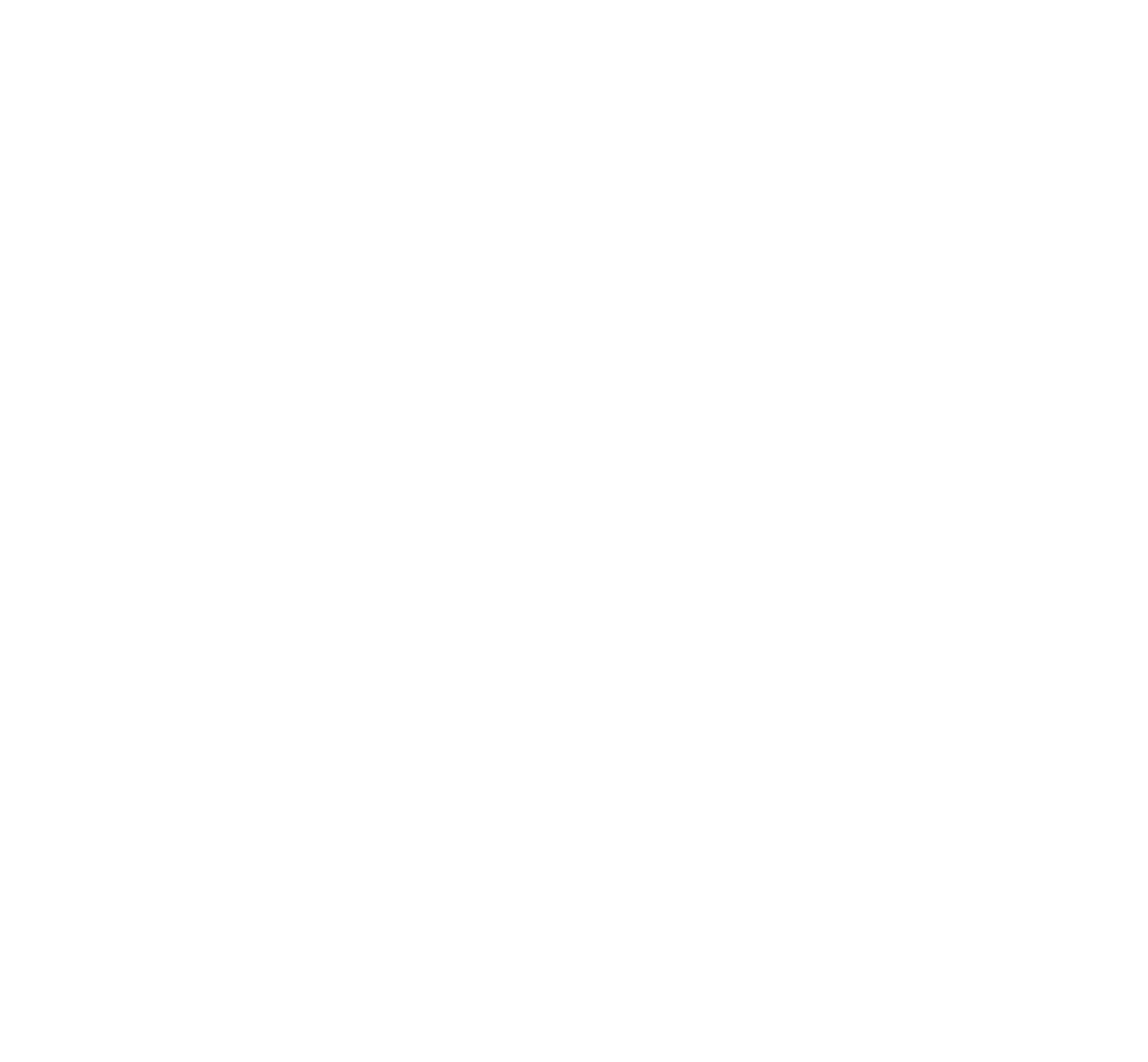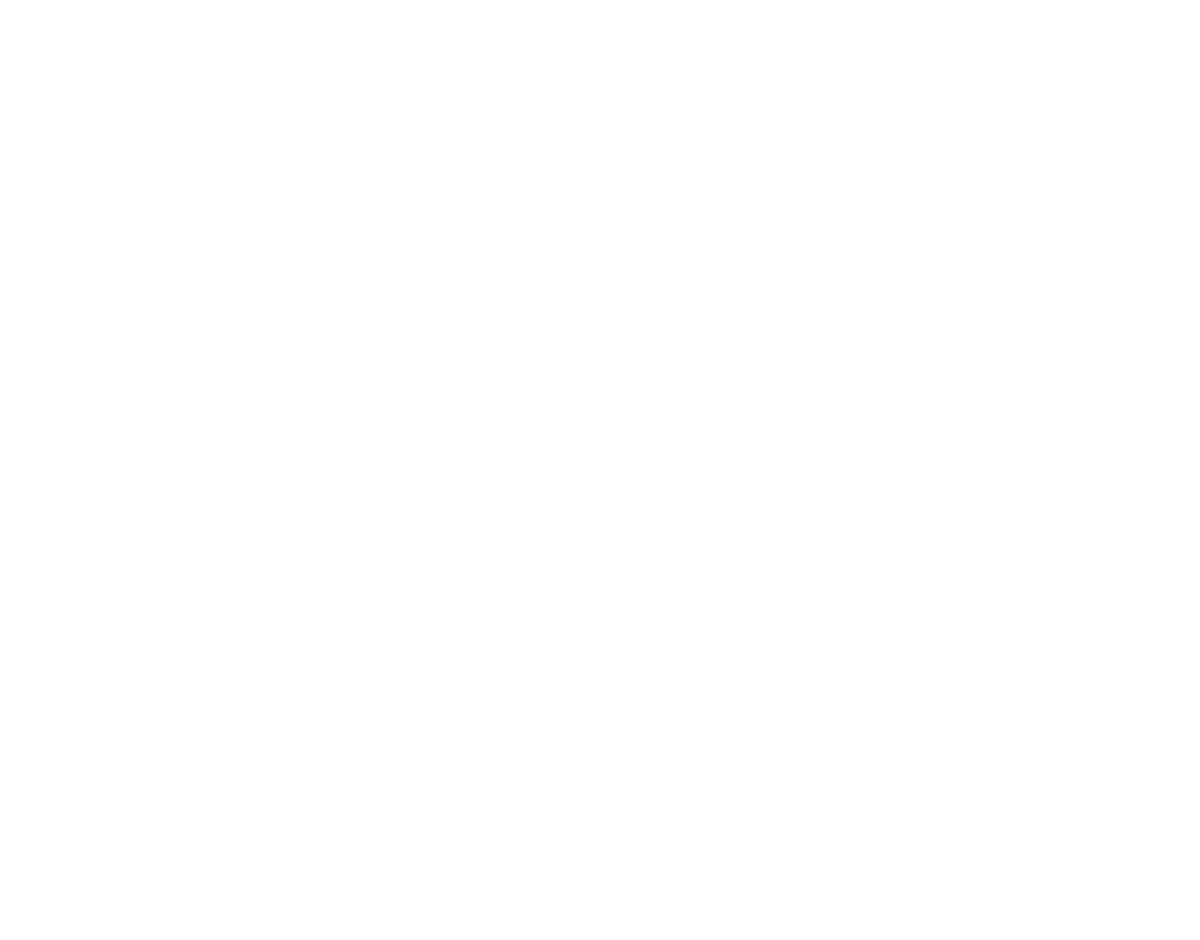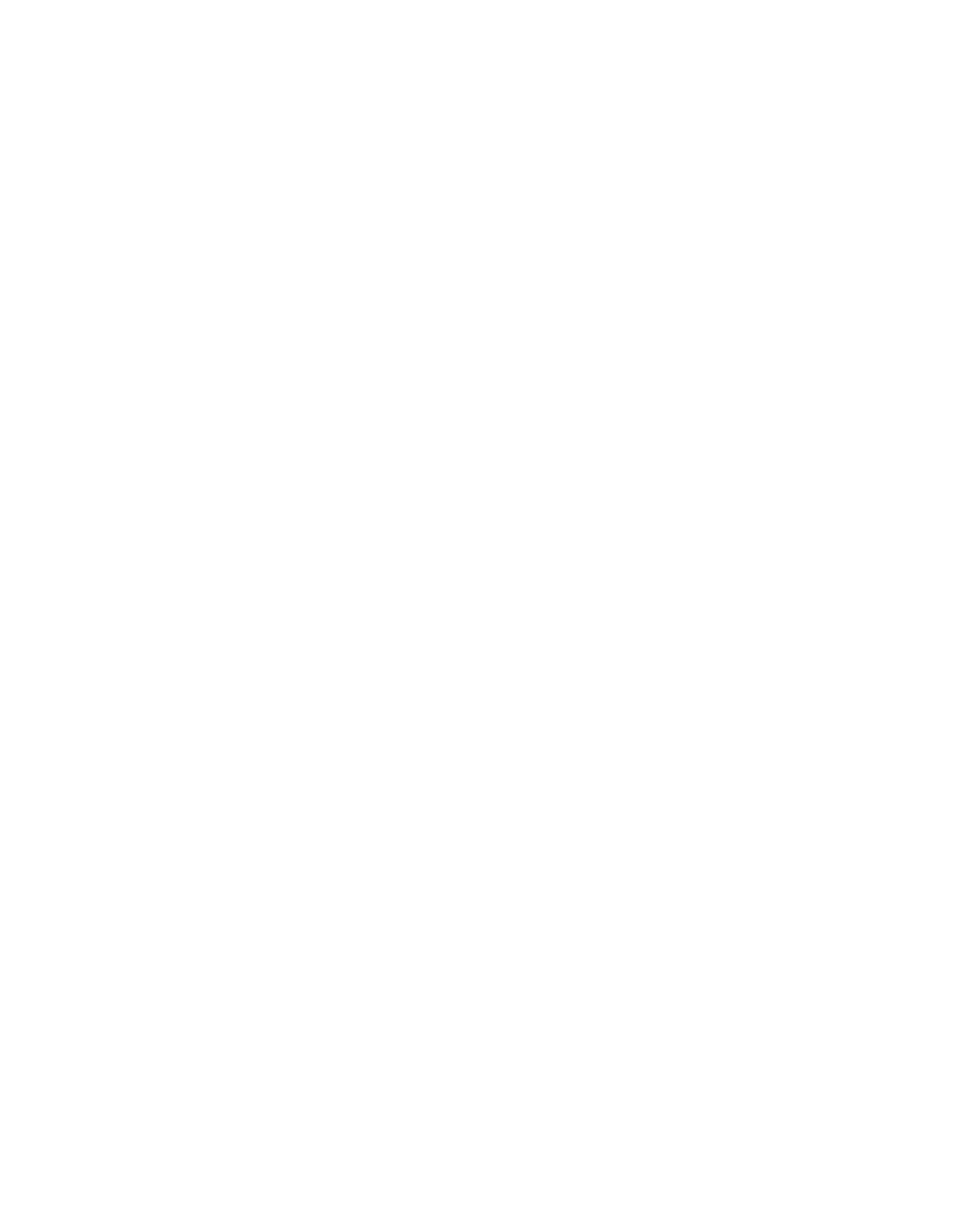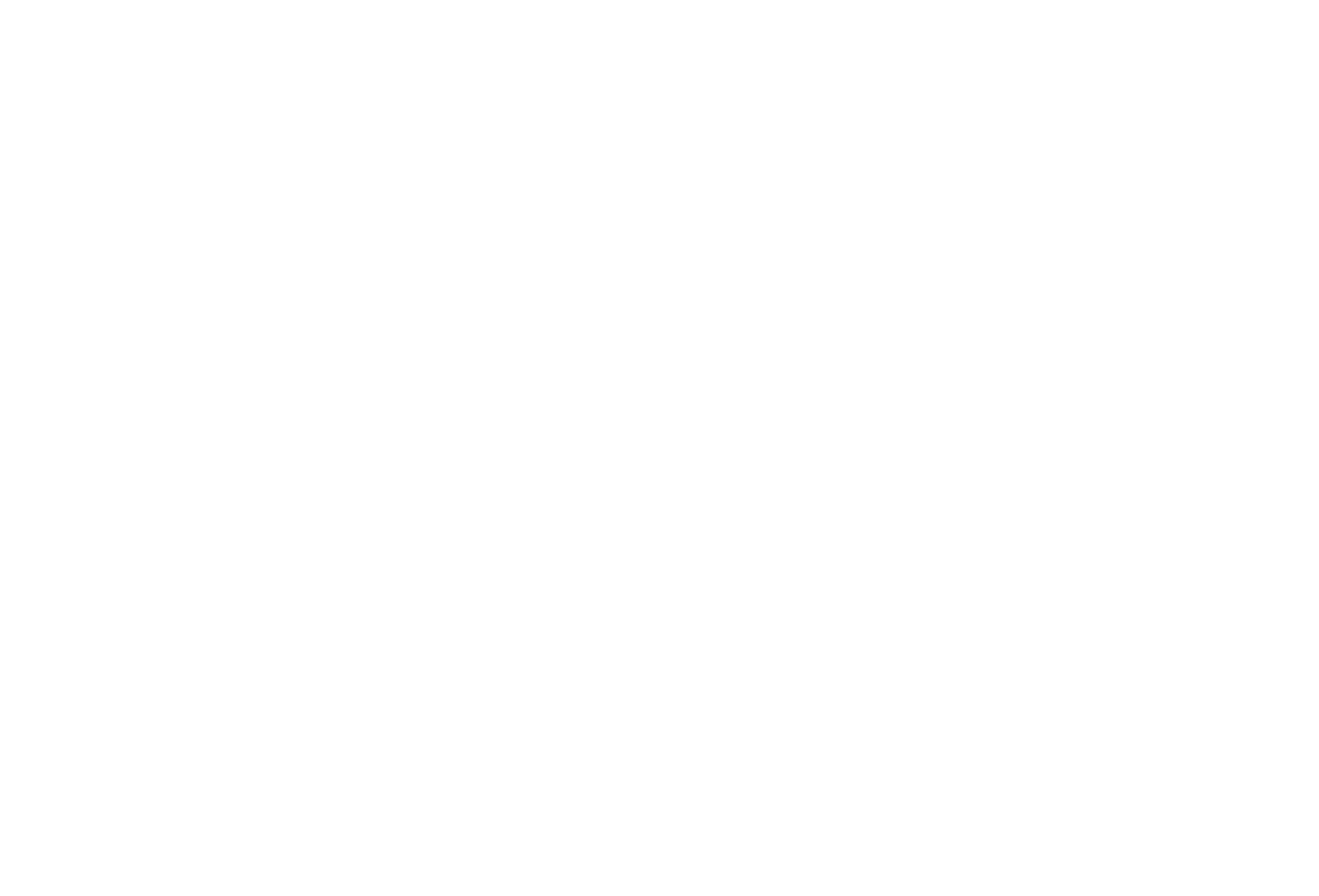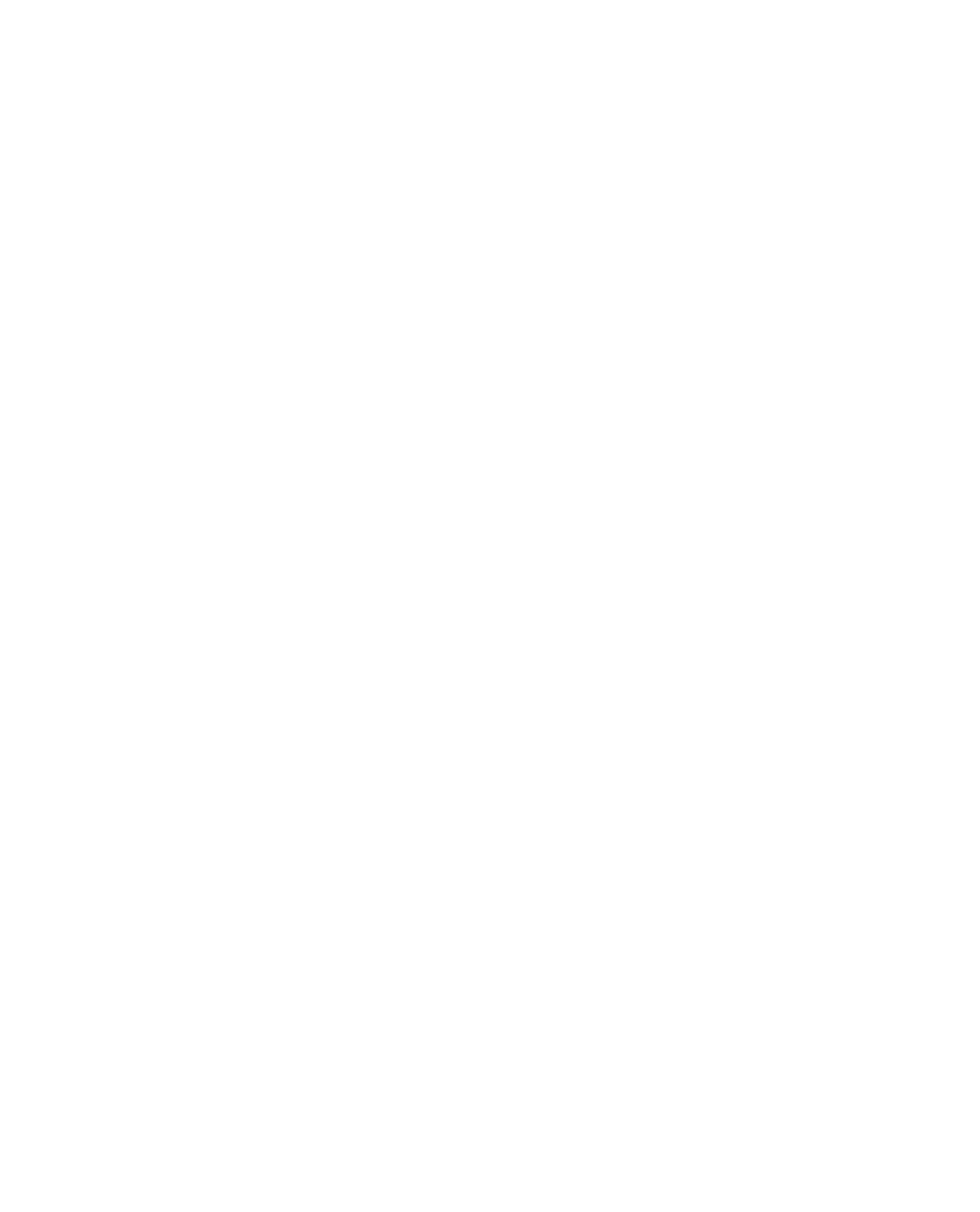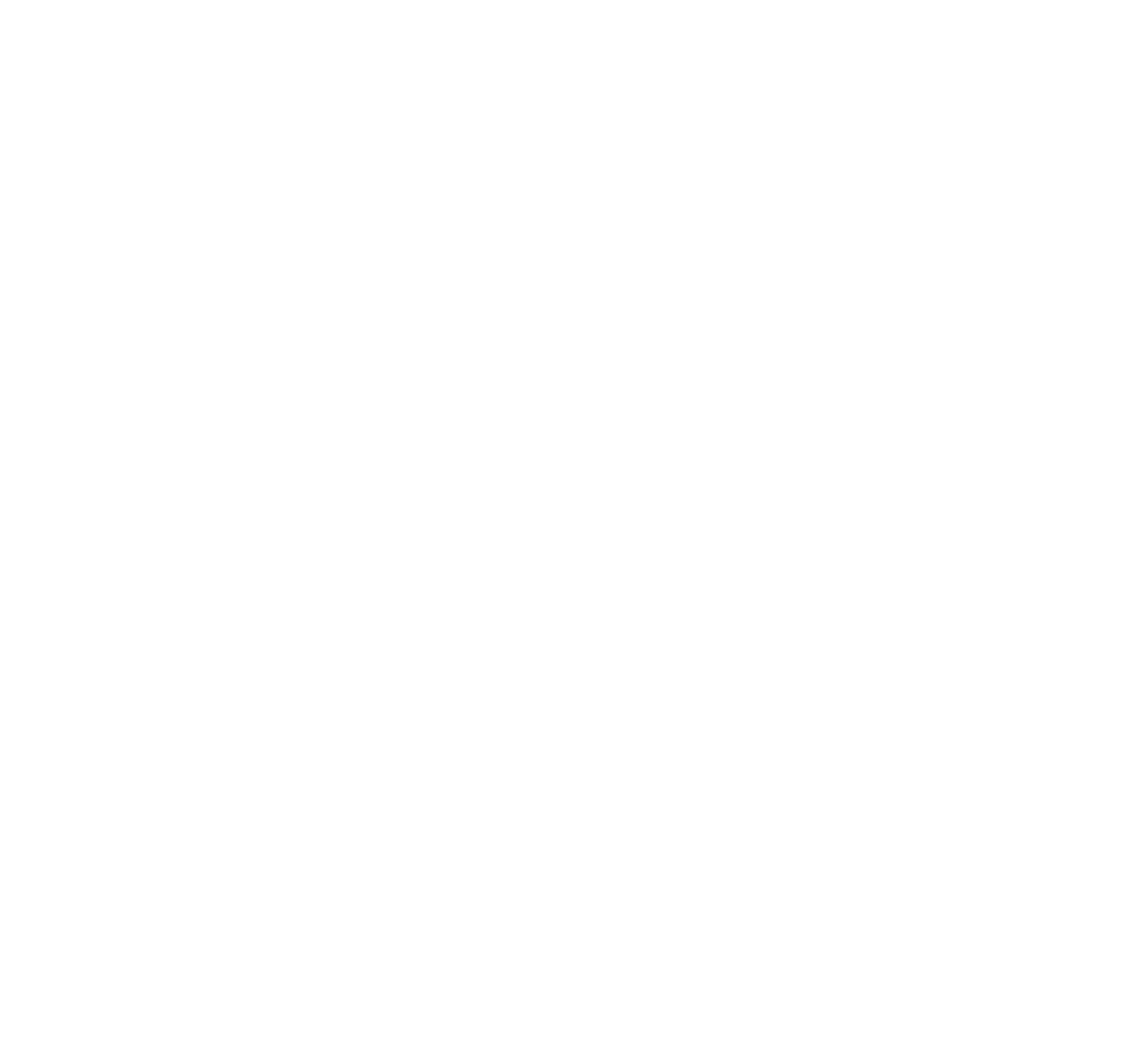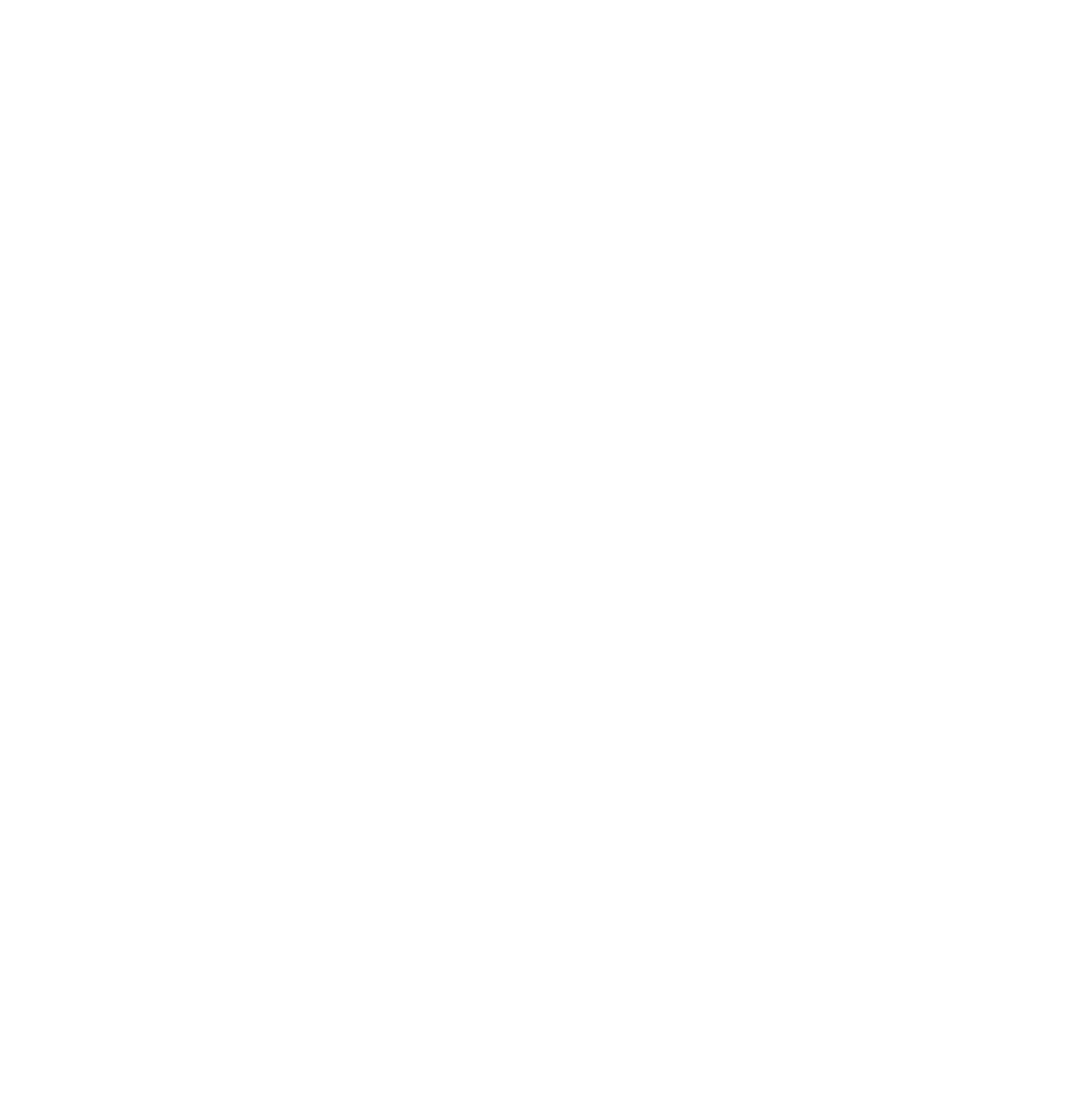Петров-Водкин – художник, отстаивающий право человека быть божественным
Вып. 166
«Директ-Медиа»
Москва, 2024
Москва, 2024
Сколько выдающихся личностей дала истории великая русская река Волга! Вот и Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, один из крупнейших русских художников первой половины XX века, появился на свет на берегах этой могучей реки. Городок, где он родился, маленький Хвалынск, — находится между Самарой и Саратовом на высоком правом берегу Волги. В то время он был окружен лесистыми взгорьями с белыми меловыми холмами и утопал в яблоневых садах. Здесь 24 октября (5 ноября по новому стилю) 1878 в семье сапожника Сергея Федоровича Водкина родился мальчик, которого назвали Кузьмой. Впоследствии он стал фигурой первой величины в живописи XX века наряду с К. Малевичем и В. Кандинским.
Детство в Хвалынске
Ранние годы мальчика прошли в кругу очень любивших его ближайших родственников — отца, матери, бабушек. Художник навсегда сохранил теплые воспоминания о своем детстве и особенно о матери. Созданные им в будущем образы материнства, безусловно, отражают эти сильные чувства.
Примечательно, что на одной из первых работ Кузьмы запечатлена его семья — речь идет о картине «Семья за столом» («Семья сапожника», 1902, Музей Академии художеств, Санкт-Петербург). Она получила признание и даже была отмечена большой серебряной медалью, хотя написал ее еще совсем молодой студент Училища живописи, ваяния и зодчества.
Кузьме было три года, когда семья на некоторое время переехала в Петербург, в Охту, куда отца забрали на военную службу. Через два года они все-таки вернулись в родной Хвалынск.
Современные представления об обстоятельствах жизни художника основываются не только на всевозможных исторических свидетельствах и документах, но и на его собственных рассказах: Петров-Водкин помимо таланта живописца обладал безусловным литературным даром.
Примечательно, что на одной из первых работ Кузьмы запечатлена его семья — речь идет о картине «Семья за столом» («Семья сапожника», 1902, Музей Академии художеств, Санкт-Петербург). Она получила признание и даже была отмечена большой серебряной медалью, хотя написал ее еще совсем молодой студент Училища живописи, ваяния и зодчества.
Кузьме было три года, когда семья на некоторое время переехала в Петербург, в Охту, куда отца забрали на военную службу. Через два года они все-таки вернулись в родной Хвалынск.
Современные представления об обстоятельствах жизни художника основываются не только на всевозможных исторических свидетельствах и документах, но и на его собственных рассказах: Петров-Водкин помимо таланта живописца обладал безусловным литературным даром.
Воспоминания Кузьмы Сергеевича легли в основу его прозы — замечательных автобиографических повестей — «Хлыновск» (1930) «Пространство Эвклида» (1933), более ранний очерк «Самаркандия» (1923) и ряд других.
Не случайно энциклопедии называют Петрова-Водкина не только художником, но и писателем.
Вот его рассказ о своем одном из первых художественных опытов: «Однажды на каком-то уроке, слушая изложение учителя, я новым кипарисовым тонко очиненным карандашом стал чертить на чистом листе общей тетради. Это было впервые, что, распределяя штрихи на бумаге, я почувствовал, как чернящий материал меняет значение плоскости листа, как на этой плоскости возникают выходящие над бумагой явления и явления углублений, как бы дырявящие лист. Учитель отобрал рисунок и показал его ученикам, затем спросил, что сделал Водкин с тетрадью? Все сошлись во мнении, что страница взрезана перочинным ножом. <…> Я был вовлечен в происходящее не меньше товарищей, ибо теперь, смотря тетрадь на расстоянии, я и сам, даже знающий секрет, видел разорванную страницу и клочки разрывов, торчащие на зрителя. Изобразительная иллюзия была столь крепкой, что, когда учитель после опроса объявил, что „дыра“ нарисована, класс засмеялся».
Не случайно энциклопедии называют Петрова-Водкина не только художником, но и писателем.
Вот его рассказ о своем одном из первых художественных опытов: «Однажды на каком-то уроке, слушая изложение учителя, я новым кипарисовым тонко очиненным карандашом стал чертить на чистом листе общей тетради. Это было впервые, что, распределяя штрихи на бумаге, я почувствовал, как чернящий материал меняет значение плоскости листа, как на этой плоскости возникают выходящие над бумагой явления и явления углублений, как бы дырявящие лист. Учитель отобрал рисунок и показал его ученикам, затем спросил, что сделал Водкин с тетрадью? Все сошлись во мнении, что страница взрезана перочинным ножом. <…> Я был вовлечен в происходящее не меньше товарищей, ибо теперь, смотря тетрадь на расстоянии, я и сам, даже знающий секрет, видел разорванную страницу и клочки разрывов, торчащие на зрителя. Изобразительная иллюзия была столь крепкой, что, когда учитель после опроса объявил, что „дыра“ нарисована, класс засмеялся».
Эта история, в правдивости которой нет никаких оснований сомневаться, свидетельствует об удивительном таланте мальчика, зоркости его зрения. Вряд ли можно предположить, что в том возрасте и в тех обстоятельствах, в которых находился тогда Петров-Водкин, он знал об особом жанре натюрморта trompe l'oeil («обманка» — картины, настолько правдиво передающие предмет, что поначалу воспринимаются как собственно сам предмет).
Очевидно, что создание такого изображения требует определенного мастерства, то есть маленький Кузьма уже обладал серьезными навыками в рисовании.
В «Хлыновске» Петров-Водкин среди самых первых чисто художественных впечатлений называет встречу с иконами новгородского письма в старообрядческом доме своего приятеля и, главное, яркие цветные рисунки песенно-сказочного содержания, которые не раз при нем создавал старик караульщик Андрей Кондратыч, сосед и друг их семьи.
«Первая для меня встреча с чистым народным стилем в графическом выражении была на этих рисунках Андрея Кондратыча, этого несомненного художника народных толщ с их эпичностью, юмором, провидчеством и положительным приниманием жизни».
Очевидно, что создание такого изображения требует определенного мастерства, то есть маленький Кузьма уже обладал серьезными навыками в рисовании.
В «Хлыновске» Петров-Водкин среди самых первых чисто художественных впечатлений называет встречу с иконами новгородского письма в старообрядческом доме своего приятеля и, главное, яркие цветные рисунки песенно-сказочного содержания, которые не раз при нем создавал старик караульщик Андрей Кондратыч, сосед и друг их семьи.
«Первая для меня встреча с чистым народным стилем в графическом выражении была на этих рисунках Андрея Кондратыча, этого несомненного художника народных толщ с их эпичностью, юмором, провидчеством и положительным приниманием жизни».
К школьным годам относится знакомство Петрова-Водкина с двумя хвалынскими иконописцами — старовером Филиппом Парфенычем и монахом Варсонофием: «У Филиппа Парфеныча узнал я о процессах работы над иконой — от заготовки левкаса до санкирного раскрытия ликов и до движек». О жившем в скиту Варсонофии он писал позже: «После близкого знакомства с Варсонофием он говорил мне, что его сны полны видениями лиц молодых, старых, веселых и гневающихся. Что он продумал и знает все черты человеческой маски, до каждой морщинки, до зрачка, до завитка волос. Он говорил, что нет для него большей муки, как видеть на своей иконе чужие лики. Он, конечно, знает, что это гордыня, но сильнее его сил примириться с невольным искажением его замыслов». Стиль русской иконописи оказал значительное влияние на художественный почерк мастера, причем нашел у него очень интересное преломление.
Еще одно немаловажное раннее знакомство Петрова-Водкина — с «живописцем-вывесочником» (так он сам себя представлял в вывеске над своей мастерской; сейчас мы назвали бы такого человека дизайнером): «У живописца вывесок я увидел другого рода, чем у Филиппа Парфеныча, палитру красок — голых-базарных, вздорящих между собою. Здесь их не охорашивали: они, как беспризорные дети, вели себя грязно и бесчинно. Меня это огорчало. У меня уже установилось уважение к краске, и для меня небрежность к цветовому материалу означала то же самое, как если бы по клавишам фортепьяно барабанили палкой. Да, краска для Толкачева [так звали вывесочника] была торговым материалом. Да и покупал он ее на базаре в москательной лавке. Но пчелы с разных цветов собирают мед, а для меня в то время достаточно было хоть самое малое отношение человека к живописи, чтобы он стал моим цветком».
Эти встречи раскрыли перед мальчиком различные стороны искусства изображения, показали, сколь разнятся творческие устремления мастеров и несхоже их отношение к краскам и вообще к своему ремеслу. Под впечатлением от увиденного он сделал в ту пору первые самостоятельные пробы кисти — написал иконы и пейзажи масляными красками. Волшебный мир искусства приоткрылся Кузьме завораживающей стороной: он понял, что чудо рукотворно и что он может попытаться приобщиться к нему.
Самара. Классы живописи и рисования
К 1893 Петров-Водкин окончил школу в Хвалынске. Встал вопрос: что дальше? Юноша решил отправиться в Самару. Мыслей о профессиональной живописной деятельности еще не было — в Самаре будущий художник намеревался поступить в железнодорожное училище. Он уже шел на экзамен, когда по дороге наткнулся на вывеску: «Классы живописи и рисования». Что-то всколыхнулось в душе молодого человека, он теперь не так боялся провалиться на вступительных испытаниях — мысли его устремились в новом направлении. Не пройдя испытание в училище, он попытал счастья в этих «Классах» и здесь ему повезло больше — он был зачислен. Руководителем заведения являлся Федор Емельянович Буров «императорский художник первой степени», тепло отнесшийся к юному живописцу. Вторая автобиографическая повесть Петрова-Водкина — «Пространство Эвклида» — содержит трогательное описание наставника и жизни его «Классов».
Смерть Бурова в 1895 положила конец учебе, и Кузьма Сергеевич был вынужден вернуться в родной дом.
Мать Петрова-Водкина в то время работала горничной. Сестра ее хозяйки, состоятельная петербургская дама И. Казарина, решила выстроить себе под Хвалынском дачу, для чего пригласила преуспевающего придворного архитектора Р. Мельцера. Так удачно сложилось, что приезжей знаменитости были продемонстрированы работы Петрова-Водкина, выросшего на глазах хозяев дома. Мельцер восторженно отозвался о творениях юноши и вызвался помочь ему поступить в учебное заведение в Петербурге. Казарина со своей стороны обещала материальную поддержку.
Впоследствии они еще долго оказывали помощь художнику, постепенно она стала выражаться в том, что покровители подыскивали своему подопечному заказы.
Мать Петрова-Водкина в то время работала горничной. Сестра ее хозяйки, состоятельная петербургская дама И. Казарина, решила выстроить себе под Хвалынском дачу, для чего пригласила преуспевающего придворного архитектора Р. Мельцера. Так удачно сложилось, что приезжей знаменитости были продемонстрированы работы Петрова-Водкина, выросшего на глазах хозяев дома. Мельцер восторженно отозвался о творениях юноши и вызвался помочь ему поступить в учебное заведение в Петербурге. Казарина со своей стороны обещала материальную поддержку.
Впоследствии они еще долго оказывали помощь художнику, постепенно она стала выражаться в том, что покровители подыскивали своему подопечному заказы.
Годы обучения: Петербург. Москва
Петров-Водкин, рассуждая о процессе учения и становления мастера в своем литературном трудекак-то заметил: «За полтора с лишком десятка лет моего ученичества много мне пришлось переиспытать на моей спине всяких учительских сноровок — и русских, и западно-европейских».
В Петербурге в 1895 он поступил в Центральное училище технического рисования, основанное бароном А. Л. Штиглицем.
Училище Штиглица, существовавшее уже пятнадцать лет, было по-немецки строго поставленным художественно-промышленным заведением, готовившим мастеров прикладного искусства. Основными предметами являлись черчение, обмеры, отмывка, рисование орнаментов.
Главными профессиональными качествами, которые здесь воспитывались, были аккуратность, способность к точному копированию образцов. Что касается собственно живописи, то ее мир, течения и проблемы были далеки от образовательной концепции Училища.
Поначалу Петров-Водкин с большим энтузиазмом отдался обучению.
В Петербурге в 1895 он поступил в Центральное училище технического рисования, основанное бароном А. Л. Штиглицем.
Училище Штиглица, существовавшее уже пятнадцать лет, было по-немецки строго поставленным художественно-промышленным заведением, готовившим мастеров прикладного искусства. Основными предметами являлись черчение, обмеры, отмывка, рисование орнаментов.
Главными профессиональными качествами, которые здесь воспитывались, были аккуратность, способность к точному копированию образцов. Что касается собственно живописи, то ее мир, течения и проблемы были далеки от образовательной концепции Училища.
Поначалу Петров-Водкин с большим энтузиазмом отдался обучению.
Занятия шли успешно, перед ним открывались все новые горизонты искусства и художественного ремесла, о которых новоявленный студент раньше и не подозревал.
Но постепенно он стал испытывать неудовлетворение от того, что живописи, к которой его так влекло, в Училище, по сути, и не было, а все внимание сосредотачивалось на сухом, как он считал, техническом рисовании.
Но зато был Петербург, а в нем Эрмитаж, Академия художеств, набережные, дворцы, проспекты. Столица казалась юноше истинным храмом искусства: «Мои младенческие памятки меня не обманули: фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из „Мира искусств“, что и я, на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, Новую Голландию, ростральные колонны и памятник Фальконета».
Петербургская духовная атмосфера сильно повлияла на формирование художественных вкусов и принципов Петрова-Водкина. Тяга к живописи оставалась неутоленной, но интересы Кузьмы Сергеевича уже складывались — и особым образом: у него постепенно зрела неприязнь к академической традиции с ее холодностью готовых форм и рецептов, а также непременной сюжетностью, шедшей от эстетики передвижников.
Но зато был Петербург, а в нем Эрмитаж, Академия художеств, набережные, дворцы, проспекты. Столица казалась юноше истинным храмом искусства: «Мои младенческие памятки меня не обманули: фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из „Мира искусств“, что и я, на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы его каналы, Новую Голландию, ростральные колонны и памятник Фальконета».
Петербургская духовная атмосфера сильно повлияла на формирование художественных вкусов и принципов Петрова-Водкина. Тяга к живописи оставалась неутоленной, но интересы Кузьмы Сергеевича уже складывались — и особым образом: у него постепенно зрела неприязнь к академической традиции с ее холодностью готовых форм и рецептов, а также непременной сюжетностью, шедшей от эстетики передвижников.
Все более утверждаясь в собственных взглядах, Петров-Водкин решительно отходил от установок Училища Штиглица.
Проучившись два года в Петербурге, художник переехал в Москву и осенью 1897 начал заниматься в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как раз тогда в заведении произошли важные перемены — начали преподавать новые мастера: в 1897 — ставший вскоре кумиром учащихся В. Серов, в следующем году — И. Левитан и П. Трубецкой, вскоре к ним присоединился К. Коровин. Студенческое окружение Петрова-Водкина тоже было замечательным: П. Кузнецов и М. Сарьян, М. Ларионов, Л. Матвеев, И. Машков.
Проучившись два года в Петербурге, художник переехал в Москву и осенью 1897 начал заниматься в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как раз тогда в заведении произошли важные перемены — начали преподавать новые мастера: в 1897 — ставший вскоре кумиром учащихся В. Серов, в следующем году — И. Левитан и П. Трубецкой, вскоре к ним присоединился К. Коровин. Студенческое окружение Петрова-Водкина тоже было замечательным: П. Кузнецов и М. Сарьян, М. Ларионов, Л. Матвеев, И. Машков.
Они способствовали обновлению Училища не меньше, чем их знаменитые преподаватели: на ученических выставках стали появляться работы, просто немыслимые в еще совсем недавние времена. Петров-Водкин сблизился с некоторыми соучениками — саратовцами Павлом Кузнецовым и Петром Уткиным, а вскоре и с Мартиросом Сарьяном; дружбу с ними он сохранил на всю жизнь.
Обе столицы открыли перед живописцем широкие художественные перспективы. Общее же образование Кузьмы Сергеевича шло в разных направлениях: он интересовался точными науками — физикой, химией, астрономией, продолжал занятия музыкой, начатые в Петербурге (уроки игры на скрипке). Серьезная роль в мыслях и планах молодого человека отводилась литературе, которой он занимался параллельно с живописью, в какие-то периоды уделяя ей первостепенное место.
Обе столицы открыли перед живописцем широкие художественные перспективы. Общее же образование Кузьмы Сергеевича шло в разных направлениях: он интересовался точными науками — физикой, химией, астрономией, продолжал занятия музыкой, начатые в Петербурге (уроки игры на скрипке). Серьезная роль в мыслях и планах молодого человека отводилась литературе, которой он занимался параллельно с живописью, в какие-то периоды уделяя ей первостепенное место.
За границей
Начался XX век. Художник (в данном случае скорее писатель) так охарактеризовал это событие: «Двадцатый век наступил не просто. Ведь из четырех цифр сорвались с места три: одна из девяток перескочила к единице и два нуля многообещающе расчистили дорогу идущему электромагнитному веку с летательными машинами, стальными рыбами и прекрасными, как чертово наваждение, дредноутами».
В какой-то момент Петров-Водкин глубоко задумался о собственном месте в культурном процессе. Вот его суждение о своих ранних работах: «Моя живопись болталась пестом о края ступы. Серо и косноязычно пришипетывали мои краски на неопрятных самодеятельных холстах. Что форма, что цвет, когда полусонная греза должна наискивать неясный образ? Недодумь и недоощупь — это и есть искусство. Томился я, терял самообладание, с отчаянием спрашивал себя: сдаться или нет, утерплю иль не вытерплю зазыва в символизм, в декаданство, в ласкающую жуть неопределенности».
В конце концов у художника появилась идея «бежать из Москвы».
В какой-то момент Петров-Водкин глубоко задумался о собственном месте в культурном процессе. Вот его суждение о своих ранних работах: «Моя живопись болталась пестом о края ступы. Серо и косноязычно пришипетывали мои краски на неопрятных самодеятельных холстах. Что форма, что цвет, когда полусонная греза должна наискивать неясный образ? Недодумь и недоощупь — это и есть искусство. Томился я, терял самообладание, с отчаянием спрашивал себя: сдаться или нет, утерплю иль не вытерплю зазыва в символизм, в декаданство, в ласкающую жуть неопределенности».
В конце концов у художника появилась идея «бежать из Москвы».
Средством передвижения он избрал... входивший в моду велосипед (взял его напрокат на льготных условиях – за рекламу фирмы в ходе будущей поездки!). «Маршрут мною был намечен следующий: Москва, Варшава, Бреславль, Мюнхен и Генуя», – писал он.
Впечатлений от этого путешествия было множество, тем более у натуры, способной видеть необычное даже в, казалось бы, малозначительных деталях: у глубоко мыслящего человека почти все «идет в дело» переплавляется в сознании в оригинальные выводы, действия, творения… «Встреч и событий за мою поездку не перечесть. Они крепко улеглись в моей памяти их общим смыслом, стерлись контуры, отдельных эпизодов, и осталась во мне одна цельная поэма движения среди людей и пейзажа», — вспоминал художник.
Впечатлений от этого путешествия было множество, тем более у натуры, способной видеть необычное даже в, казалось бы, малозначительных деталях: у глубоко мыслящего человека почти все «идет в дело» переплавляется в сознании в оригинальные выводы, действия, творения… «Встреч и событий за мою поездку не перечесть. Они крепко улеглись в моей памяти их общим смыслом, стерлись контуры, отдельных эпизодов, и осталась во мне одна цельная поэма движения среди людей и пейзажа», — вспоминал художник.
В профессиональном смысле Петрова-Водкина очень интересовал Мюнхен.
Кое-как добравшись туда (1901), он первым делом направился в Частную школу рисования А. Ашбе, где в то время обучалась большая интернациональная группа молодых художников. (Сюда в 1896 прибыл В. Кандинский; здесь уже раньше начали учиться М. Добужинский, И. Грабарь, Д. Кардовский, Д. Бурлюк и многие другие россияне). Живую картину атмосферы, царившей у Ашбе, можно найти на страницах «Пространства Эвклида» (в мемуарах других «ашбевцев», в частности В. Кандинского, — тоже).
Кое-как добравшись туда (1901), он первым делом направился в Частную школу рисования А. Ашбе, где в то время обучалась большая интернациональная группа молодых художников. (Сюда в 1896 прибыл В. Кандинский; здесь уже раньше начали учиться М. Добужинский, И. Грабарь, Д. Кардовский, Д. Бурлюк и многие другие россияне). Живую картину атмосферы, царившей у Ашбе, можно найти на страницах «Пространства Эвклида» (в мемуарах других «ашбевцев», в частности В. Кандинского, — тоже).
Но в Мюнхене работали и другие крупные мастера А. Бёклин, Ф. Штук и Ф. фон Ленбах. В расцвете был стиль модерн, и стеклянный дворец мюнхенского «Сецессиона» (цитадель модерна с его «беспозвоночной кривой и болотным колером», как лихо подметил Кузьма Сергеевич) русский путешественник тоже «принял во внимание». Глубоко осмыслив увиденное, Петров-Водкин… пошел своим путем. (Ироничные фантазии о «применении на русской почве всех этих художественных достижений» — очень яркие страницы «Пространства Эвклида»).
Возвращение на родину
Велосипедный тур завершился, и Петров-Водкин снова очутился в Москве. На сей раз он поступил в мастерскую В. Серова. Вскоре перед художником остро встал вопрос заработка. Летом 1902 он вместе с двумя своими товарищами отправился в Саратов, чтобы расписывать там церковь Казанской Иконы Божией Матери. При всех ярких впечатлениях от заграничной поездки дорогие с детства образы притягивали живописца. Эти росписи были для него не только лишь источником дохода. Сам мастер говорил: «Работали мы с большим подъемом и увлечением». С жаром юности Петров-Водкин с товарищами приступил к выполнению заказа, но они настолько неканонично трактовали образы и сюжеты, что вызвали раздражение у церковных властей. В результате росписи друзей были уничтожены, а Кузьма Сергеевич вернулся в Москву.
В последующие два года Петров-Водкин хоть и продолжал занятия в Училище, но чаще трудился в столице над заказами, которыми его снабжал Мельцер. В частности, по просьбе архитектора он исполнил картон большого майоликового образа Богоматери для фасада клиники Вредена в Петербурге (ныне здание Института травматологии), а затем направился в Лондон, где летом 1904 наблюдал за переводом своей работы в материал на керамической фабрике Дультона.
В 1905 Петров-Водкин окончил Московское училище живописи. В сущности, это была уже простая формальность — художник понимал, что перерос училище, последние два года занимался мало и нерегулярно. Вся его основная работа шла практически вне стен учебного заведения.
В 1905 Петров-Водкин окончил Московское училище живописи. В сущности, это была уже простая формальность — художник понимал, что перерос училище, последние два года занимался мало и нерегулярно. Вся его основная работа шла практически вне стен учебного заведения.
И вместе с тем он чувствовал себя недостаточно подготовленным к серьезным самостоятельным занятиям живописью.
«Дорога в Италию»
Шестнадцатая глава «Пространства Эвклида» называется «Дорога в Италию». В ней описываются впечатления от поездки, начавшейся в Одессе осенью 1905 и закончившейся восхождением на Везувий.
Италия потрясла Петрова-Водкина. Четыре месяца продолжалось его путешествие. Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Милан — все волновало его и находило отклик в его душе, преломлялось в творческом сознании. И все при этом заслоняла фигура Леонардо да Винчи. Влияние «образов Италии» легко различимы в написанных позже картинах Кузьмы Сергеевича.
Италия потрясла Петрова-Водкина. Четыре месяца продолжалось его путешествие. Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Милан — все волновало его и находило отклик в его душе, преломлялось в творческом сознании. И все при этом заслоняла фигура Леонардо да Винчи. Влияние «образов Италии» легко различимы в написанных позже картинах Кузьмы Сергеевича.
Венец путешествия — восхождение на Везувий, ознаменовавшееся рокотом начинавшегося извержения вулкана: «Трудно мне сейчас описать мое состояние, но, конечно, я был в экстазе; может быть словами „героическая торжественность“ можно было назвать охватившее меня чувство на живой трепещущей земле… И никакого страха, ни малейшего сознания опасности не чувствовал я. Мелки были всякие соображения и ощущения, кроме одного, захватившего: двинулся космос и треплет и мчит меня в его ритмах небывалых, незнакомых мне. И земля, которую я знал до той поры, оказалась иной…»
Восторг художника, оказавшегося буквально на грани жизни и смерти («я унюхал близкую гарь: на мне, очевидно, тлело пальто. Я начал высвобождаться из пепла»), был равнозначен некоему перерождению физическому и психическому: «Впереди открывались необъятные просторы» (последние слова описания путешествия).
Восторг художника, оказавшегося буквально на грани жизни и смерти («я унюхал близкую гарь: на мне, очевидно, тлело пальто. Я начал высвобождаться из пепла»), был равнозначен некоему перерождению физическому и психическому: «Впереди открывались необъятные просторы» (последние слова описания путешествия).
Французский след
Период времени после возвращения из Италии прошел под знаком серьезного увлечения Петрова-Водкина писательством — талант к литературе у него был очевиден.
Он создал ряд пьес, отмеченных сильным влиянием Леонида Андреева, метерлинковского символизма и характерной для начала XX века несколько ходульной патетики.
Одна из его пьес — «Жертвенные» — была поставлена в 1906. Успех спектакля окрылил автора. В то время Петров-Водкин даже колебался, чему отдать предпочтение — литературе или живописи.
Он создал ряд пьес, отмеченных сильным влиянием Леонида Андреева, метерлинковского символизма и характерной для начала XX века несколько ходульной патетики.
Одна из его пьес — «Жертвенные» — была поставлена в 1906. Успех спектакля окрылил автора. В то время Петров-Водкин даже колебался, чему отдать предпочтение — литературе или живописи.
И все же в апреле 1906 художник отправился в Париж, где намеревался совершенствовать живописное мастерство (хотя даже здесь он ни на день не прекращал свои литературные занятия).
Тем удивительней выглядит тот факт, что именно от поездки во Францию осталось больше всего рисунков — ни до, ни после Кузьма Сергеевич не занимался графикой столько, сколько в Париже.
Но в целом это были учебные штудии, выполненные в основном в Академии Коларосси. Постепенно живопись взяла верх.
Если в Италию Петров-Водкин ездил с художественно-образовательной целью, то пребывание во Франции должно было стать — и действительно стало для него — важной школой практической работы и вместе с тем приобщением к современному западно-европейскому искусству в самом средоточии его новейших проявлений.
Но в целом это были учебные штудии, выполненные в основном в Академии Коларосси. Постепенно живопись взяла верх.
Если в Италию Петров-Водкин ездил с художественно-образовательной целью, то пребывание во Франции должно было стать — и действительно стало для него — важной школой практической работы и вместе с тем приобщением к современному западно-европейскому искусству в самом средоточии его новейших проявлений.
Например, работа «Играющие мальчики» (1911, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) ясно обнаруживает влияние на творчество художника французской живописи, в частности произведения Матисса «Танец» (другое название — «Хоровод»).
С этим холстом Петров-Водкин познакомился у С. Щукина в его московском особняке в Знаменском переулке, где меценат собрал лучшую коллекцию современных тогда французских картин.
Ассоциация с полотном Матисса возникает у зрителя непроизвольно и сразу. Живописец и сам признавался, что именно «Танец» вдохновил его на создание «Играющих мальчиков».
С этим холстом Петров-Водкин познакомился у С. Щукина в его московском особняке в Знаменском переулке, где меценат собрал лучшую коллекцию современных тогда французских картин.
Ассоциация с полотном Матисса возникает у зрителя непроизвольно и сразу. Живописец и сам признавался, что именно «Танец» вдохновил его на создание «Играющих мальчиков».
Справедливости ради нужно признать, что шедевр Матисса остался непревзойденным: у него все подчинено одной идее движения и все элементы работы объединены в общее целое, они равно условно-символичны. Картине Петрова-Водкина такой целостности недостает: реалистичность фигур входит в некоторое противоречие с условностью пейзажа и цветового строя произведения. К тому же непонятна суть игры мальчиков, а без прояснения этого вопроса приходится лишь верить авторскому названию и считать, что герои играют. Сомнение, однако, остается: не сражаются ли (дерутся) они? Поэтому инстинктивно зритель колеблется в восприятии изображенного: умиляться ли ему или тревожиться? Знаменитая картина Матисса подобных сомнений не оставляет.
Свой стиль
Приехав из Парижа и обосновавшись в Петербурге, Петров-Водкин в летние месяцы подолгу жил в Хвалынске. При всех, казалось бы, сильных его пристрастиях к символическим формам — и в живописи, и в литературе — он довольно быстро отошел от них, стараясь выработать собственный стиль. Совсем скоро Кузьма Сергеевич создал свою самую узнаваемую и характерную картину — «Купание красного коня» (1912, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Это полотно — шедевр зрелого стиля художника.
Оно необычайно интересно, во-первых, именно как художественное произведение, во-вторых, своей содержательной идеей и, наконец, живописными приемами. Пространство работы организовано таким образом, что благодаря высоко помещенной линии горизонта, находящейся как бы за пределами самой композиции, оно поднимается и фактически становится равнозначно самой плоскости картины. При этом глубина не исчезает, но ощущается благодаря масштабному сокращению фигур второго плана. Такая трактовка пространства делает сильный акцент на силуэтах фигур, обостряет столкновение локальных цветов и выявляет дуализм формы — контраст плоскости и глубины, динамики и статики.
Оно необычайно интересно, во-первых, именно как художественное произведение, во-вторых, своей содержательной идеей и, наконец, живописными приемами. Пространство работы организовано таким образом, что благодаря высоко помещенной линии горизонта, находящейся как бы за пределами самой композиции, оно поднимается и фактически становится равнозначно самой плоскости картины. При этом глубина не исчезает, но ощущается благодаря масштабному сокращению фигур второго плана. Такая трактовка пространства делает сильный акцент на силуэтах фигур, обостряет столкновение локальных цветов и выявляет дуализм формы — контраст плоскости и глубины, динамики и статики.
Это произведение можно в определенном смысле считать художественным манифестом Петрова-Водкина, оно резко выделило его из круга мастеров (даже крупных) начала XX века и поставило в отдалении от течений и направлений того времени. Он словно полемизирует с импрессионистическими приемами живописи, под обаянием которой находились в ту пору многие художники, остается в стороне от кубистического принципа претворения формы, не интересуют его и футуристические эксперименты.
Еще одна особенность этой картины станет характерной чертой всего творчества Петрова-Водкина: при том, что сюжет работы нарочито бытовой (купание коня), в ней нет рассказа о событии. Хотя натура представлена, живописцу удается поднять ее до некоего идеального значения. И один из приемов, с помощью которого он достигает цели, — трактовка цвета, в первую очередь главной фигуры (красного коня). При этом здесь нет «плаката» с его нарочитой броскостью. Скорее присутствуют традиции древнерусского искусства: конь красного цвета часто встречается на иконах (красное — прекрасное). То есть можно сказать, что впечатления детских лет в полотне проявились с большой силой.
Еще одна особенность этой картины станет характерной чертой всего творчества Петрова-Водкина: при том, что сюжет работы нарочито бытовой (купание коня), в ней нет рассказа о событии. Хотя натура представлена, живописцу удается поднять ее до некоего идеального значения. И один из приемов, с помощью которого он достигает цели, — трактовка цвета, в первую очередь главной фигуры (красного коня). При этом здесь нет «плаката» с его нарочитой броскостью. Скорее присутствуют традиции древнерусского искусства: конь красного цвета часто встречается на иконах (красное — прекрасное). То есть можно сказать, что впечатления детских лет в полотне проявились с большой силой.
Ясно ощущаемая патетика картины, выражение духовности как глубоко внутреннего состояния делают ее воплощением национального русского мироощущения.
Станковое произведение благодаря своей внутренней значительности, духовной глубине и отсутствию случайных деталей воспринимается как творение монументальное.
«Купание красного коня» было показано на выставке «Мир искусства». Уже само место картины на выставке свидетельствовало о ее признаваемой всеми исключительности: она висела не в общей экспозиции, а над входной дверью, как своего рода знамя.
Можно догадаться, что если для одних полотно оказалось манифестом, то для других мишенью для острой критики.
Станковое произведение благодаря своей внутренней значительности, духовной глубине и отсутствию случайных деталей воспринимается как творение монументальное.
«Купание красного коня» было показано на выставке «Мир искусства». Уже само место картины на выставке свидетельствовало о ее признаваемой всеми исключительности: она висела не в общей экспозиции, а над входной дверью, как своего рода знамя.
Можно догадаться, что если для одних полотно оказалось манифестом, то для других мишенью для острой критики.
Один из первых откликов на «Купание красного коня» принадлежит поэту Рюрику Ивневу:
Кроваво-красный конь, к волнам морским стремящийся
С истомным юношей на выпуклой спине,
Ты, как немой огонь, вокруг меня крутящийся
О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.
Картина поразила и молодого Сергея Есенина, который позже, в 1919, под впечатлением от нее создал своего «Пантократора». Несколькими годами позже поэт написал:
Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне.
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Судьба холста оказалась драматичной. В 1914 его отправили в русский отдел «Балтийской выставки» в шведский город Мальмё. За участие в этом мероприятии Петров-Водкин получил от шведского короля Густава V медаль и грамоту. Но на родину полотно не вернулось — Первая мировая война, а потом начавшиеся в России революция и Гражданская война привели к тому, что оно на долгое время осталось в Швеции.
Кроваво-красный конь, к волнам морским стремящийся
С истомным юношей на выпуклой спине,
Ты, как немой огонь, вокруг меня крутящийся
О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.
Картина поразила и молодого Сергея Есенина, который позже, в 1919, под впечатлением от нее создал своего «Пантократора». Несколькими годами позже поэт написал:
Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне.
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Судьба холста оказалась драматичной. В 1914 его отправили в русский отдел «Балтийской выставки» в шведский город Мальмё. За участие в этом мероприятии Петров-Водкин получил от шведского короля Густава V медаль и грамоту. Но на родину полотно не вернулось — Первая мировая война, а потом начавшиеся в России революция и Гражданская война привели к тому, что оно на долгое время осталось в Швеции.
Только после окончания Второй мировой войны начались переговоры о возвращении работы на родину. Шведский музей предлагал вдове художника продать «Купание красного коня», но она отказалась.
Наконец в 1950 картина была возвращена в Советский Союз (вместе с десятью другими произведениями мастера). От вдовы Петрова-Водкина она попала в коллекцию известной собирательницы К. Басевич, которая в 1961 преподнесла ее в дар Государственной Третьяковской галерее.
Кузьма Сергеевич еще несколько раз обращался к образу коня, например в «Жаждущем воине» (1915, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и «Фантазии» (1925, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Но больше не сумел подняться до его идеального образа.
Однако главной темой искусства Петрова-Водкина всегда был человек. Художник создал особенный тип портрета. Можно даже сказать, что типическое в композиции и приемах изображения у него доминирует над индивидуальными чертами моделей.
Наконец в 1950 картина была возвращена в Советский Союз (вместе с десятью другими произведениями мастера). От вдовы Петрова-Водкина она попала в коллекцию известной собирательницы К. Басевич, которая в 1961 преподнесла ее в дар Государственной Третьяковской галерее.
Кузьма Сергеевич еще несколько раз обращался к образу коня, например в «Жаждущем воине» (1915, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и «Фантазии» (1925, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Но больше не сумел подняться до его идеального образа.
Однако главной темой искусства Петрова-Водкина всегда был человек. Художник создал особенный тип портрета. Можно даже сказать, что типическое в композиции и приемах изображения у него доминирует над индивидуальными чертами моделей.
Это характерно для групп портретов, написанных мастером в какое-то определенное время, когда в его творчестве господствовали те или иные отличительные особенности. В другой период в целой группе портретов просматриваются иные черты. «Портрет М. Ф. Петровой-Водкиной» (1913, Государственная Третьяковская галерея, Москва) очень характерен для живописи той поры. Супруга автора предстает как спокойный, вдумчивый наблюдатель, гармонически принимающий окружающий мир.
Созданные на тот момент мастером произведения позволяют говорить об утвердившемся в его творчестве стиле. Уже по картинам 1910-х можно говорить, что перед нами самобытный художник с глубоко индивидуальным видением мира. Он разработал собственную систему — «науку видеть», как он ее называл, включающую в себя необычный метод преображения пространства при передаче его на плоскости и своеобразную цветовую палитру. По оригинальности этой «науки» Петров-Водкин стоит в одном ряду с такими творцами своих «наук», как В. Кандинский и К. Малевич.
Созданные на тот момент мастером произведения позволяют говорить об утвердившемся в его творчестве стиле. Уже по картинам 1910-х можно говорить, что перед нами самобытный художник с глубоко индивидуальным видением мира. Он разработал собственную систему — «науку видеть», как он ее называл, включающую в себя необычный метод преображения пространства при передаче его на плоскости и своеобразную цветовую палитру. По оригинальности этой «науки» Петров-Водкин стоит в одном ряду с такими творцами своих «наук», как В. Кандинский и К. Малевич.
Решая для себя проблему передачи пространства на плоскости, Кузьма Сергеевич разработал метод, получивший название «сферической перспективы». Оставляя в стороне теоретические предпосылки его концепции (они подвергались обсуждению и критике), отметим те особенности, которые ясно проявляются собственно в картинах мастера. Во-первых, точка зрения на натуру несколько сверху и сбоку (особенно в натюрмортах), так что горизонтальные плоскости круглятся и как бы развертываются в глубину, а вертикали превращаются в веерообразно расходящиеся наклонные линии (условно говоря, доминирует диагональ).
Таким образом достигается главное, ради чего это «изобретено»: изображение избавляется от тривиального правдоподобия и начинает ощущаться сопричастность его с космическим миром Вселенной (это чувствуется уже в «Купании красного коня»). Теория Петрова-Водкина получила описание и оправдание в «Пространстве Эвклида». Примечательно, что сформулированная художником концепция «сферической перспективы» «переросла» пространство Эвклида (сблизившись, пожалуй, с пространством Лобачевского).
Другой важнейший аспект творческого стиля Петрова-Водкина — его концепция цвета, вернее сочетания цветов.
Таким образом достигается главное, ради чего это «изобретено»: изображение избавляется от тривиального правдоподобия и начинает ощущаться сопричастность его с космическим миром Вселенной (это чувствуется уже в «Купании красного коня»). Теория Петрова-Водкина получила описание и оправдание в «Пространстве Эвклида». Примечательно, что сформулированная художником концепция «сферической перспективы» «переросла» пространство Эвклида (сблизившись, пожалуй, с пространством Лобачевского).
Другой важнейший аспект творческого стиля Петрова-Водкина — его концепция цвета, вернее сочетания цветов.
И вновь глубокие суждения об этом мы находим в «Пространстве Эвклида» (глава «Цвет»). Изложив основы хроматической теории цвета, автор разбирает особенности «дополнительных» цветов, интерпретируя их в свете своей «трехцветной хроматической гаммы» (красный — синий — желтый).
Женские образы
В тот же период, когда создавалась картина «Купание красного коня», в искусство Петрова-Водкина вошла тема материнства. Вскоре именно она стала определять глубинное содержание его творчества.
В произведениях на эту тему художник создал обобщенный образ русской женщины. Он собирал его из воспоминаний детства на Волге, в глубинке России. И получившийся образ оказался в XX веке столь целостным и завершенным, что остается непревзойденным художественным выражением русского идеала женской красоты. Этот идеал нашел свое воплощение и в жанровых картинах мастера, и в его произведениях, рожденных под впечатлением от русской иконописи. К последним относится полотно «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914−1915, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
Петров-Водкин как-то (стоит иметь в виду, что это было в 1938!) заявил: «Раз у русского нет влияния иконы, то значит это не русский и не живописец". Как уже говорилось, еще в Хвалынске он испытывал сильное влечение к иконописи.
В произведениях на эту тему художник создал обобщенный образ русской женщины. Он собирал его из воспоминаний детства на Волге, в глубинке России. И получившийся образ оказался в XX веке столь целостным и завершенным, что остается непревзойденным художественным выражением русского идеала женской красоты. Этот идеал нашел свое воплощение и в жанровых картинах мастера, и в его произведениях, рожденных под впечатлением от русской иконописи. К последним относится полотно «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914−1915, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
Петров-Водкин как-то (стоит иметь в виду, что это было в 1938!) заявил: «Раз у русского нет влияния иконы, то значит это не русский и не живописец". Как уже говорилось, еще в Хвалынске он испытывал сильное влечение к иконописи.
И творения русских иконописцев всегда высоко ценил, а в своих произведениях использовал многие приемы иконописи, глубоко переосмысливая при этом древнерусские традиции и пытаясь создать нечто новое.
Именно поэтому его творения подвергались критике как «справа», так и «слева»: церковь не видела Петрова-Водкина церковным живописцем, советское же искусство отвергало его материнские образы как, наоборот, проявление религиозности.
Русская иконопись знает иконографический тип Богоматери — Богоматерь Умягчение злых сердец. Как и остальные изводы, этот появился не случайно.
Именно поэтому его творения подвергались критике как «справа», так и «слева»: церковь не видела Петрова-Водкина церковным живописцем, советское же искусство отвергало его материнские образы как, наоборот, проявление религиозности.
Русская иконопись знает иконографический тип Богоматери — Богоматерь Умягчение злых сердец. Как и остальные изводы, этот появился не случайно.
Симеон Богоприимец — старец, которому было суждено жить до тех пор, пока он не увидит Спасителя, в день Сретения Господня предсказал Его Матери, что Ей «Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2: 22−38) и его предсказание сбылось, когда Она стояла у Креста Своего Сына.
На картине Петрова-Водкина в нимбе Богородицы изображены Распятие и Она Сама. Ее скорбь была столь велика, что все наши переживания в сравнении с Ее страданиями кажутся незначительными или малыми. Поэтому Матерь Божия является Помощницей и Утешительницей в наших скорбях. Перед иконой молятся об умиротворении враждующих и об умягчении злых сердец.
«Умиление злых сердец» было написано в 1915.
На картине Петрова-Водкина в нимбе Богородицы изображены Распятие и Она Сама. Ее скорбь была столь велика, что все наши переживания в сравнении с Ее страданиями кажутся незначительными или малыми. Поэтому Матерь Божия является Помощницей и Утешительницей в наших скорбях. Перед иконой молятся об умиротворении враждующих и об умягчении злых сердец.
«Умиление злых сердец» было написано в 1915.
Память о невероятных страданиях, выпавших на долю России в Первой мировой войне, способствовала появлению в творчестве художника этого образа, взывающего к «умягчению» («умилению») враждующих («злых сердец»). Необычайно выразителен и красноречив усмиряющий жест обеих рук Богоматери!
Тема материнства у мастера решена в подчеркнуто русском стиле. В женских образах Петрова-Водкина чувствуются одухотворенность и сочетание целомудрия и жизненности.
В 1910-х в творчестве художника преобладают два образа, два типа матери. Крестьянские женщины из одноименных полотен «Мать» воплощают всю полноту жизни. Существуют две основные картины с таким названием: одна относится к 1913 (Государственная Третьяковская галерея, Москва), другая — к 1915 (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), а также эскиз к первой работе 1913 (Музей изобразительного искусства, Харьков).
Более позднее произведение выглядит не только и даже не столько портретом какой-то конкретной молодой матери, сколько неким обобщающим образом материнства.
Тема материнства у мастера решена в подчеркнуто русском стиле. В женских образах Петрова-Водкина чувствуются одухотворенность и сочетание целомудрия и жизненности.
В 1910-х в творчестве художника преобладают два образа, два типа матери. Крестьянские женщины из одноименных полотен «Мать» воплощают всю полноту жизни. Существуют две основные картины с таким названием: одна относится к 1913 (Государственная Третьяковская галерея, Москва), другая — к 1915 (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), а также эскиз к первой работе 1913 (Музей изобразительного искусства, Харьков).
Более позднее произведение выглядит не только и даже не столько портретом какой-то конкретной молодой матери, сколько неким обобщающим образом материнства.
Женщина в расцвете плодоносных сил на картине облачена в одежды голубого и красного цветов. Голубой ассоциируется у зрителя с идеей целомудренной строгости и чистоты; он символизирует также небо. Красный — цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Эти цвета и в дальнейшем будут играть важную роль в творчестве художника.
Женщина на протяжении всего творчества Петрова-Водкина предстает на его полотнах все более пленительной именно в своей материнской ипостаси. И если согласиться с утверждением ряда искусствоведов, что произведение было доработано мастером к 1917, то этот окончательно определившийся тип матери можно считать отправной точкой ставшего доминирующим в последующую эпоху — социалистического реализма — образа женщины в творчестве художника, и даже шире — женского типа во всем советском искусстве. Мать в картине Петрова-Водкина молодая и дородная, с крутыми плечами и статной шеей. Наклонные линии стены, окна и других предметов — характерная особенность композиции многих произведений художника — усиливают и впечатление от всей фигуры как воплощения материнства, и ее простонародной и вместе с тем почти что царственной осанки.
Женщина на протяжении всего творчества Петрова-Водкина предстает на его полотнах все более пленительной именно в своей материнской ипостаси. И если согласиться с утверждением ряда искусствоведов, что произведение было доработано мастером к 1917, то этот окончательно определившийся тип матери можно считать отправной точкой ставшего доминирующим в последующую эпоху — социалистического реализма — образа женщины в творчестве художника, и даже шире — женского типа во всем советском искусстве. Мать в картине Петрова-Водкина молодая и дородная, с крутыми плечами и статной шеей. Наклонные линии стены, окна и других предметов — характерная особенность композиции многих произведений художника — усиливают и впечатление от всей фигуры как воплощения материнства, и ее простонародной и вместе с тем почти что царственной осанки.
Ракурс, в котором изображена героиня, весьма примечателен: поворот головы — красивый и вольный; кажется, что женщина наконец освобождается от каких-то державших ее оков — моральных и физических.
«Утро. Купальщицы» (1917, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — на редкость цельное, гармоничное и очень красивое по живописи произведение.
Композиционно оно полностью соответствует сформулированным характерным особенностям зрелого стиля художника: фигуры взяты крупно и почти касаются краев холста, а мелкие (на заднем плане) даже выходят за его пределы. Обнаженная молодая женщина, ведущая за руку ребенка, трактована необычайно целомудренно и воспринимается истинным идеалом материнства.
«Утро. Купальщицы» (1917, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — на редкость цельное, гармоничное и очень красивое по живописи произведение.
Композиционно оно полностью соответствует сформулированным характерным особенностям зрелого стиля художника: фигуры взяты крупно и почти касаются краев холста, а мелкие (на заднем плане) даже выходят за его пределы. Обнаженная молодая женщина, ведущая за руку ребенка, трактована необычайно целомудренно и воспринимается истинным идеалом материнства.
Примечательно, что две девушки на втором плане заставляют невольно вспомнить центральные женские фигуры из более ранней картины — «Девушки на Волге» (1915, Государственная Третьяковская галерея, Москва).
Но танцевальные позы героинь «Девушек на Волге» наводят на мысль об итальянских впечатлениях художника и о картине «Весна» Боттичелли.
Здесь же молодые крестьянки (безусловно, крестьянки!) превращаются в олицетворение русской женщины.
В сущности, идеал женщины и женской красоты не менялся у Петрова-Водкина после того, как он отошел от декадентского стиля 1900-х. Не менялась и живописная стилистика воплощения этого идеала.
Но танцевальные позы героинь «Девушек на Волге» наводят на мысль об итальянских впечатлениях художника и о картине «Весна» Боттичелли.
Здесь же молодые крестьянки (безусловно, крестьянки!) превращаются в олицетворение русской женщины.
В сущности, идеал женщины и женской красоты не менялся у Петрова-Водкина после того, как он отошел от декадентского стиля 1900-х. Не менялась и живописная стилистика воплощения этого идеала.
Причем, он представлен в истинно русском образе и немыслим оказался для художника вне извечной темы материнства: все героини символизируют собой целомудрие и материнскую любовь. Почти на каждой картине присутствует дитя: либо ведомое матерью за руку, либо прижимаемое ею к груди, либо в кроватке. Много раз этот образ будет возникать, когда художник станем отцом, но, даже если тема картины иная («1919 год. Тревога»; см. ниже), женщина предстает именно в этой ипостаси. Совершенно очевидно, что женская тема оставалась доминирующей на протяжении всей жизни Петрова-Водкина.
Революция. Новый этап
Февральская революция 1917 сподвигла Петрова-Водкина принять участие в общественно-художественной жизни. Вместе с Ф. Шаляпиным, А. Бенуа, М. Добужинским, Н. Рерихом, И. Фоминым и В. Щуко он вошел в состав руководимого М. Горьким Особого совещания по делам искусства, стал членом комиссии по реформе Академии художеств.
30 января 1918 собрание Академии художеств избрало Петрова-Водкина профессором-руководителем мастерской живописного отделения Высшего художественного училища.
С этого времени и на протяжении почти полутора десятка лет он являлся одним из ведущих профессоров Академии.
30 января 1918 собрание Академии художеств избрало Петрова-Водкина профессором-руководителем мастерской живописного отделения Высшего художественного училища.
С этого времени и на протяжении почти полутора десятка лет он являлся одним из ведущих профессоров Академии.
В 1920-е Петров-Водкин, уже имевший значительный педагогический опыт, много выступал с докладами, в которых темпераментно излагал свою концепцию «Науки видеть».
В период 1918—1920 особое внимание мастера привлекала проблема соединения и сочетания на пространстве картины отдельных предметов, их художественная взаимосвязь. Ему доставляли радость установление «межпредметных связей», раскрытие, как ему казалось, самой сущности вещей.
Художник создал ряд натюрмортов, интересных не только своим первоначальным чисто живописным эффектом, но и выявлением этих связей.
В период 1918—1920 особое внимание мастера привлекала проблема соединения и сочетания на пространстве картины отдельных предметов, их художественная взаимосвязь. Ему доставляли радость установление «межпредметных связей», раскрытие, как ему казалось, самой сущности вещей.
Художник создал ряд натюрмортов, интересных не только своим первоначальным чисто живописным эффектом, но и выявлением этих связей.
Цель создания натюрморта очень ярко сформулирована им в соответствующей главе «Пространства Эвклида»: «Натюрморт — это одна из острых бесед живописца с натурой. В нем сюжет и психологизм не загораживают определения предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, — в этом основное требование натюрморта. И в этом — большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем».
Очевидно, случайное открытие возможности точного воспроизведения объектов (вспомним рассказ Петрова-Водкина о его первом рисунке, написанном в Хвалынске, и о том, какой эффект произвел он своей «натуральностью») надолго захватило художника, и в течение своей творческой карьеры он создал много картин в жанре натюрморта, которые соединили глубоко символическое начало (значение) и удивительную натурную точность, причем в характерных для мастера ракурсах, в «сферической перспективе». Этот симбиоз и делает наследие живописца в жанре натюрморта чрезвычайно своеобразным. О некоторых наборах предметов можно сказать очень определенные вещи — так точно они изображены. Так, например, в работе «Натюрморт со скрипкой» (1921, частное собрание) воспроизведено конкретное нотное издание: Bach. Inventionen und Sinfonien в издании Peters.
Очевидно, случайное открытие возможности точного воспроизведения объектов (вспомним рассказ Петрова-Водкина о его первом рисунке, написанном в Хвалынске, и о том, какой эффект произвел он своей «натуральностью») надолго захватило художника, и в течение своей творческой карьеры он создал много картин в жанре натюрморта, которые соединили глубоко символическое начало (значение) и удивительную натурную точность, причем в характерных для мастера ракурсах, в «сферической перспективе». Этот симбиоз и делает наследие живописца в жанре натюрморта чрезвычайно своеобразным. О некоторых наборах предметов можно сказать очень определенные вещи — так точно они изображены. Так, например, в работе «Натюрморт со скрипкой» (1921, частное собрание) воспроизведено конкретное нотное издание: Bach. Inventionen und Sinfonien в издании Peters.
Любопытно, что это произведение Баха не для скрипки, а для клавира.
Предметы на натюрмортах художника вступают в некую сложную взаимосвязь: они сопрягаются, но, можно сказать, не соприкасаются, ни один их них не загораживает и не перекрывает другой, «силовые линии», идущие от предметов, не пересекаются. И вместе с тем ощущается напряженность их натяжений.
Такое впечатление, что, составляя предметы для своих натюрмортов — а их справедливо порой именуют «предметными композициями», — мастер выступает как своего рода исследователь их физических свойств их геометрии, даже стереометрии, прозрачности (стекло), отражательной способности (зеркальность поверхности), проницаемости для света.
Некоторые вещи, составляющие натюрморты, вызывали, судя по всему, особый интерес Петрова-Водкина. Это, в частности, предметы из стекла — графин, рюмка, бокал, граненый и шлифованный, пресс-папье. Их можно увидеть в «Натюрморте с зеркалом» (1919, Государственная картинная галерея Армении, Ереван), «Натюрморте с синей пепельницей» (1920, частное собрание).
Предметы на натюрмортах художника вступают в некую сложную взаимосвязь: они сопрягаются, но, можно сказать, не соприкасаются, ни один их них не загораживает и не перекрывает другой, «силовые линии», идущие от предметов, не пересекаются. И вместе с тем ощущается напряженность их натяжений.
Такое впечатление, что, составляя предметы для своих натюрмортов — а их справедливо порой именуют «предметными композициями», — мастер выступает как своего рода исследователь их физических свойств их геометрии, даже стереометрии, прозрачности (стекло), отражательной способности (зеркальность поверхности), проницаемости для света.
Некоторые вещи, составляющие натюрморты, вызывали, судя по всему, особый интерес Петрова-Водкина. Это, в частности, предметы из стекла — графин, рюмка, бокал, граненый и шлифованный, пресс-папье. Их можно увидеть в «Натюрморте с зеркалом» (1919, Государственная картинная галерея Армении, Ереван), «Натюрморте с синей пепельницей» (1920, частное собрание).
Наиболее пристальное внимание художник уделяет граненому стакану в силу сложности его формы и необычных оптических эффектов, связанных с ней. В нескольких картинах и рисунках живописец как бы экспериментирует с эффектами преломления каких-то вещей (например, чайной ложки) в гранях стакана, наполненного водой. Таков «Утренний натюрморт» (1918, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
При всем интересе в новое время к новым темам мастер не оставлял свой излюбленный образ матери. В 1920 он написал полотно «1918 год в Петрограде» («Петроградская Мадонна», Государственная Третьяковская галерея, Москва).
Формально это жанровая сцена, доносящая до нас характерные приметы города и облик людей эпохи революции. Но по сути своей — возвышенный образ матери с ее душевной чистотой и нравственной силой. Недаром картина получила второе название — «Петроградская мадонна». Стоящая на балконе женщина, явно работница фабрики, со спящим ребенком на руках своим обликом напоминает молодых крестьянок, которых Петров-Водкин с такой любовью писал в середине 1910-х. Но здесь художник воплощает новый образ матери, рожденный драматическими событиями революции, его городской, пролетарский вариант.
Формально это жанровая сцена, доносящая до нас характерные приметы города и облик людей эпохи революции. Но по сути своей — возвышенный образ матери с ее душевной чистотой и нравственной силой. Недаром картина получила второе название — «Петроградская мадонна». Стоящая на балконе женщина, явно работница фабрики, со спящим ребенком на руках своим обликом напоминает молодых крестьянок, которых Петров-Водкин с такой любовью писал в середине 1910-х. Но здесь художник воплощает новый образ матери, рожденный драматическими событиями революции, его городской, пролетарский вариант.
При этом сам вид героини, ее силуэт и одежда напоминают Мадонну. Однако перед нами Мадонна определенного времени — времени Гражданской войны. Колорит места и времени вносит ясно улавливаемые исторические «обертоны» в восприятие работы. Во всей ее атмосфере ощущаются напряженность и тревожность. То же самое подчеркивает уберегающий ребенка от опасности жест матери (традиционно характерный для Мадонн старых мастеров) — будто бы она прячет малыша от голода и невзгод, которые, как известно, вскоре действительно настанут. Строем чувств эта мать отличается от матери, запечатленной на раннем полотне (1915).
Особым направлением в графическом наследии Петрова-Водкина является рисунок, в частности портреты, среди которых необходимо особо отметить превосходные автопортреты, исполненные кистью и тронутые пером. На «Автопортрете» (1921, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) художник предстает как личность необычайно цельная и волевая. Он ничуть не стремится себя приукрасить и скрыть простонародное происхождение — наоборот! А вместе с явно выраженной целеустремленностью, ощущаемой в сосредоточенном взгляде внимательных и зорких глаз, оно ясно говорит о несокрушимом упорстве в преодолении всех препятствий и трудностей — как житейских, так и творческих.
Особым направлением в графическом наследии Петрова-Водкина является рисунок, в частности портреты, среди которых необходимо особо отметить превосходные автопортреты, исполненные кистью и тронутые пером. На «Автопортрете» (1921, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) художник предстает как личность необычайно цельная и волевая. Он ничуть не стремится себя приукрасить и скрыть простонародное происхождение — наоборот! А вместе с явно выраженной целеустремленностью, ощущаемой в сосредоточенном взгляде внимательных и зорких глаз, оно ясно говорит о несокрушимом упорстве в преодолении всех препятствий и трудностей — как житейских, так и творческих.
Самаркандия
Летом 1921 Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы совместно с Российской Академией истории материальной культуры организовал научную экспедицию в Туркестан для обследования состояния архитектурных и исторических памятников.
Петрову-Водкину представилась возможность принять в ней участие. В Самарканде он пробыл около четырех месяцев и привез оттуда большую серию работ маслом (пейзажи, «головы», портреты, натюрморты), а также множество рисунков и акварелей.
Путешествие подпитало и его литературный талант – спустя год с небольшим Кузьма Сергеевич написал очерк «Самаркандия».
Петрову-Водкину представилась возможность принять в ней участие. В Самарканде он пробыл около четырех месяцев и привез оттуда большую серию работ маслом (пейзажи, «головы», портреты, натюрморты), а также множество рисунков и акварелей.
Путешествие подпитало и его литературный талант – спустя год с небольшим Кузьма Сергеевич написал очерк «Самаркандия».
Конечно, Петров-Водкин-художник не мог отстраниться от Петрова-Водкина-писателя: книгу (как и две предыдущие) он сам проиллюстрировал замечательными рисунками тушью, исполненными пером и кистью. При взгляде на них кажется, что импульсивные, энергичные рисунки не столько иллюстрируют страницы издания, сколько дополняют, а порой заменяют собой ненаписанные абзацы и целые главки.
Наиболее значительное живописное произведение самаркандского цикла — «Шах-и-Зинда. Самарканд» (1921, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). В нем, как и в других работах самаркандского цикла, кажется, отсутствует какая-то более глубокая философская идея, характерная для картин, созданных до и после путешествия. Можно предположить, что художник дал отдых своей напряженной аналитической мысли и полностью отдался пленительным впечатлениям от этого края «бирюзового откровения», как он его назвал в очерке. В нем читаем: «Вот Шахи-Зинда, та сразу, как только вынырнули ее купола в прорезах священной рощи, — она стала моей любимицей. Шахи-Зиндой я понял человеческое творчество Самаркандии».
Наиболее значительное живописное произведение самаркандского цикла — «Шах-и-Зинда. Самарканд» (1921, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). В нем, как и в других работах самаркандского цикла, кажется, отсутствует какая-то более глубокая философская идея, характерная для картин, созданных до и после путешествия. Можно предположить, что художник дал отдых своей напряженной аналитической мысли и полностью отдался пленительным впечатлениям от этого края «бирюзового откровения», как он его назвал в очерке. В нем читаем: «Вот Шахи-Зинда, та сразу, как только вынырнули ее купола в прорезах священной рощи, — она стала моей любимицей. Шахи-Зиндой я понял человеческое творчество Самаркандии».
Любопытно сравнить рисунок в книге с полотном: на них сам памятник и пейзажи очень схожи, но на рисунке иные персонажи — изображен караван верблюдов.
В живописном варианте другое решение: у нижнего его края автор поместил портрет мальчика-узбека.
Эта голова определяет расстояние, отделяющее живописца от мощного ансамбля мавзолеев: возникают два изобразительных плана, разделенные пространством, художественно освоенным и полностью предохраняющим плоскость композиции от перспективных прорывов.
Остроумно создается определенная дистанция между мальчиком, олицетворяющим современную жизнь, и старым городом, уже давно пережившим эпоху своего расцвета.
Отмеченные ранее характерные особенности зрелого стиля художника проявляются в картине со всей очевидностью: высокая линия горизонта, крупный масштаб фигуры (мальчика), приближенной к зрителю, вовлечение зрителя в общение с персонажем, «кадрирование» изображения уже того пространства, которое он занимает в реальности (фигура «не помещается» в картине).
В общем, «Шах-и-Зинда. Самарканд» — истинно петрово-водкинское творение.
В живописном варианте другое решение: у нижнего его края автор поместил портрет мальчика-узбека.
Эта голова определяет расстояние, отделяющее живописца от мощного ансамбля мавзолеев: возникают два изобразительных плана, разделенные пространством, художественно освоенным и полностью предохраняющим плоскость композиции от перспективных прорывов.
Остроумно создается определенная дистанция между мальчиком, олицетворяющим современную жизнь, и старым городом, уже давно пережившим эпоху своего расцвета.
Отмеченные ранее характерные особенности зрелого стиля художника проявляются в картине со всей очевидностью: высокая линия горизонта, крупный масштаб фигуры (мальчика), приближенной к зрителю, вовлечение зрителя в общение с персонажем, «кадрирование» изображения уже того пространства, которое он занимает в реальности (фигура «не помещается» в картине).
В общем, «Шах-и-Зинда. Самарканд» — истинно петрово-водкинское творение.
Поздний период
В 1923 мастер написал полотно «После боя» (Центральный музей Вооруженных сил, Москва). На первый взгляд кажется, что сюжет картины — воспоминания или скорее поминание красноармейцами (судя по звездам на их фуражках) погибшего в бою товарища.
Произведение можно сравнить с более ранней работой художника на военную тему — «На линии огня» (1916, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). В результате внимание зрителя невольно обращается к фигуре на заднем плане — она предстает некоей автоцитатой холста 1916: то же положение правой руки, прижатой к груди, та же наголо остриженная голова (почти одинаково падающая с нее фуражка), те же портупея и пояс. Возникает вопрос: кого вспоминают красноармейцы? В 1923 он еще мог быть задан спокойно, и ответ находился в плоскости дискуссии о художественном строе картины. Но позже у него появились все шансы доставить определенное беспокойство: в свете нарастающей тогда борьбы с контрреволюционными и эсеровскими организациями, приведшей к репрессиям 1930-х, работа «После боя» в конце того десятилетия могла вызвать — и чудом не вызвала — обвинения, за которыми следовали аресты, лагеря… Возможно, предвидя такое развитие событий, художник сам в одной из публичных дискуссий о его творчестве — в 1936 — предлагал сопоставить эти работы: «Если вы сравните «На линии» и вторую картину [то есть «После боя"], то вы увидите, что между ними ничего нет общего. <…> Оказывается, что за пять лет солдатов нет, а есть красноармейцы, красногвардейцы, что-то другое. К ним я чувствую какую-то внутреннюю нежность».
Групповой портрет «Рабочие» (1926, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) написан будто без всякой симпатии и тем более сочувствия к его героям. Они производят впечатление каких-то хищных бездуховных механистических натур. Это читается во взглядах, в жестах рук. Их разговор (или спор) явно о чем-то приземленном.
Еще в Хвалынске у Петрова-Водкина была возможность присмотреться к пролетариям и их труду. Несколько лет спустя после создания картины художник писал свою автобиографическую повесть «Пространство Эвклида», где есть рассказ о его работе в «ремонтных мастерских Среднего Затона» в родном городе. Эти описания будто повторяют изображенное на полотне: «Я чувствовал на себе результаты работы с машиной: безупречная логика маховика увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской, мускулы рифмовались с ней и к такому же порядку приводили мозговую деятельность».
Еще в Хвалынске у Петрова-Водкина была возможность присмотреться к пролетариям и их труду. Несколько лет спустя после создания картины художник писал свою автобиографическую повесть «Пространство Эвклида», где есть рассказ о его работе в «ремонтных мастерских Среднего Затона» в родном городе. Эти описания будто повторяют изображенное на полотне: «Я чувствовал на себе результаты работы с машиной: безупречная логика маховика увязывала приводными ремнями и передачами всю систему мастерской, мускулы рифмовались с ней и к такому же порядку приводили мозговую деятельность».
Далее о рабочих: «Тело у каждого отделано машиной. Мускулы скупые, — в них только то, что полагается, чтоб они не мешали один другому, не путались между собой в работе. <…> Это „дзинь“ и „скряб“ железа выковывают упругую ткань, оформляют по-своему скелет, утрамбовывают пейзажную мысль до острого городского жанра».
Нужно отметить, что это романтическое восприятие рабочего и его труда еще совсем молодого человека (хвалынский период художника). В картине же 1926 пролетарий как типаж предстает совпадающим в физическом плане с образом, сформировавшимся у Водкина-юноши, но в психологическом смысле личностью деградировавшей: лица рабочих на картине совершенно лишены духовности, жесткий взгляд, свидетельствующий о навязчивой — явно меркантильной — идее, корыстный жест…
Нужно отметить, что это романтическое восприятие рабочего и его труда еще совсем молодого человека (хвалынский период художника). В картине же 1926 пролетарий как типаж предстает совпадающим в физическом плане с образом, сформировавшимся у Водкина-юноши, но в психологическом смысле личностью деградировавшей: лица рабочих на картине совершенно лишены духовности, жесткий взгляд, свидетельствующий о навязчивой — явно меркантильной — идее, корыстный жест…
Полотно не воспевает рабочего, а обличает его бездуховность. Хотя по форме перед нами тот самый социалистический реализм, апологетом которого в определенный момент был признан Петров-Водкин, по сути это обличительный документ — неприятие художником «гегемона» слишком очевидно.
Не зря живописцу позже пришлось, можно сказать, оправдываться: «Я пишу рабочих (вариантов много). Для чего? Для освоения и уяснения себе человека того времени, тех дней, живущего рядом со мной. Кто же он, который сдвинул страну с мертвой точки? Вот этот анализ событий и поиски типажа и были моей внутренней глубочайшей работой». Примем это убедительное оправдание. Но будем помнить о времени — 1926!
Не зря живописцу позже пришлось, можно сказать, оправдываться: «Я пишу рабочих (вариантов много). Для чего? Для освоения и уяснения себе человека того времени, тех дней, живущего рядом со мной. Кто же он, который сдвинул страну с мертвой точки? Вот этот анализ событий и поиски типажа и были моей внутренней глубочайшей работой». Примем это убедительное оправдание. Но будем помнить о времени — 1926!
Выше всех современных ему литераторов мастер считал Андрея Белого. Любопытно, что в прозе Белого и Петрова-Водкина, несмотря на глубокие различия в характере их произведений, есть известные параллели и даже сходство в их литературной стилистике. Они уже были давно знакомы, но в конце 1920-х — начале 1930-х судьба свела их вместе в Детском (бывшем Царском) Селе. У художника возникла мысль изобразить писателя (1932, Национальная галерея Армении, Ереван).
Сохранилось свидетельство, как тот воспринял портрет. К. Бугаева в своих воспоминаниях пишет: «1931. Май-июнь. Позирует для портрета Петрову-Водкину. Находит портрет очень удачным. Удачнее других незаконченный портрет Петрова-Водкина. Он один рисовал не „Андрея Белого“, а человека. Его зарисовка всего человечнее. И жаль, что после первого сеанса все оборвалось. И остальное К[узьма] С[ергеевич] доделывал уже по памяти. В это время Б. Н. [Андрей Белый] находился в крайне нервном состоянии, которое мало располагало к позированию».
В иконографии Белого портрет Петрова-Водкина занимает, быть может, самое значительное место.
Сохранилось свидетельство, как тот воспринял портрет. К. Бугаева в своих воспоминаниях пишет: «1931. Май-июнь. Позирует для портрета Петрову-Водкину. Находит портрет очень удачным. Удачнее других незаконченный портрет Петрова-Водкина. Он один рисовал не „Андрея Белого“, а человека. Его зарисовка всего человечнее. И жаль, что после первого сеанса все оборвалось. И остальное К[узьма] С[ергеевич] доделывал уже по памяти. В это время Б. Н. [Андрей Белый] находился в крайне нервном состоянии, которое мало располагало к позированию».
В иконографии Белого портрет Петрова-Водкина занимает, быть может, самое значительное место.
В 1934 к десятилетию со дня смерти Ленина мастер написал «Потрет В. И. Ленина» (Национальная галерея Армении, Ереван). Автор первой монографии о художнике В. Костин отмечал, что Кузьма Сергеевич «задумал написать Владимира Ильича в домашней обстановке за чтением „Песен западных славян“ Пушкина. Под влиянием прочитанного Владимир Ильич задумался, подняв голову от книги. Художник придал слишком экспрессивное выражение взгляду и вообще всему лицу Ленина и почти полностью утратил сходство. Так интересный сам по себе замысел не получил в этом произведении убедительного воплощения». В январские дни 1924 Петрову-Водкину в числе немногих художников было позволено запечатлеть Ленина в гробу. Рисунок Кузьмы Сергеевича был воспроизведен в журнале «Красная нива» (1924, № 6). В том же году живописец создал картину «У гроба Ленина» (Государственная Третьяковская галерея, Москва). С тех пор его не оставляла мысль еще раз написать портрет Владимира Ильича.
Свой замысел он осуществил в 1934. Нужно знать положение дел в стране в то время, чтобы понимать, что всякое, претендовавшее на идеологическую значимость изображение вождя имело символическое значение (а другое воссоздание его образа и не могло ни приниматься, ни восприниматься обществом): каждый такой портрет мог существовать только в статусе «иконы». С этой точки зрения полотно Петрова-Водкина не вписывается в систему канонических — и уже окаменевших изображений вождя. Тем не менее (точнее, благодаря этому) портрет замечателен именно своей яркой характерностью, что делает его исключительным явлением в живописной лениниане. Мастер хотел показать Ленина в уютной обстановке, в уединении. Фантазия художника — запечатлеть вождя с томом А. Пушкина, читающим «Песни западных славян».
На портрете Ленин предстает доживающим последние годы жизни, и некоторые черты его лица указывают на прогрессирующее заболевание (что дало повод для разных сомнительных «идеологических» интерпретаций работы).
В конце 1920-х — начале 1930-х Петров-Водкин принимал участие в больших выставках как в стране, так и за рубежом. А в 1931 ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1932 на смену отдельным творческим обществам был создан единый Ленинградский союз художников, и Петров-Водкин стал его первым председателем.
В картинах последнего периода творчества живописца отчетливо преобладают черты реализма, который стал именоваться социалистическим.
Полотно «Новоселье (Рабочий Петроград)» (1937, Государственная Третьяковская галерея, Москва) интересно «читать» как яркое свидетельство эпохи. Оно воспринимается своего рода театральной сценой или даже кинематографической раскадровкой (художник на предварительном этапе работы над произведением, кстати, самым большим по размеру и самым многофигурным в его творчестве, четко сформулировал характеристики персонажей).
В конце 1920-х — начале 1930-х Петров-Водкин принимал участие в больших выставках как в стране, так и за рубежом. А в 1931 ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1932 на смену отдельным творческим обществам был создан единый Ленинградский союз художников, и Петров-Водкин стал его первым председателем.
В картинах последнего периода творчества живописца отчетливо преобладают черты реализма, который стал именоваться социалистическим.
Полотно «Новоселье (Рабочий Петроград)» (1937, Государственная Третьяковская галерея, Москва) интересно «читать» как яркое свидетельство эпохи. Оно воспринимается своего рода театральной сценой или даже кинематографической раскадровкой (художник на предварительном этапе работы над произведением, кстати, самым большим по размеру и самым многофигурным в его творчестве, четко сформулировал характеристики персонажей).
Из окон квартиры, где собрались отпраздновать новоселье, открывается вид на набережную Невы. Следовательно, это самый аристократический район Петербурга. Но помещение отдано семье рабочего. Можно догадаться, что бывшие владельцы, от которых остались часть мебели (кресло, старинный платяной шкаф) и детали интерьера (большое зеркало в простенке между окнами, лампа на столике, картины по стенам), выселены или эмигрировали и теперь здесь новые хозяева — пролетарии (старинные кресла соседствуют с простыми табуретами, некогда богатый ковер — с половиком). И все это воспроизведено художником с явной симпатией к строителям новой жизни, нужно полагать, симпатией искренней.
В 1936 Петров-Водкин делился своими мыслями о полотне (пока работа еще не была завершена): «Общую тему „Новоселья“ можно сформулировать так: ленинградский пролетариат в момент перехода к мирному строительству. Раскрытию этой темы служат и фигура комиссара в полувоенном костюме, разговаривающего со стариком крестьянином — отцом хозяина квартиры, и фигуры бойцов, вернувшихся с фронта, но еще не успевших залечить свои раны, и женщины, и дети — граждане нового общества».
Картину часто упрекают за кажущееся несовершенство композиции, ее схематичность, несколько тусклый колорит. Более того, в ней видят даже скрытую сатиру на новый социальный быт. С последним никак нельзя согласиться. Такая интерпретация порождена нашим гораздо более развязным временем с его совершенно иными, нежели в 1930-е, этическими принципами и нормами.
Полотно Петрова-Водкина ярко свидетельствует именно о стиле жизни и поведения той поры: очень многое тогда не позволялось (разгульное веселье) и не могло быть предметом «советского искусства». В этом смысле работа является замечательным документом эпохи.
Картину часто упрекают за кажущееся несовершенство композиции, ее схематичность, несколько тусклый колорит. Более того, в ней видят даже скрытую сатиру на новый социальный быт. С последним никак нельзя согласиться. Такая интерпретация порождена нашим гораздо более развязным временем с его совершенно иными, нежели в 1930-е, этическими принципами и нормами.
Полотно Петрова-Водкина ярко свидетельствует именно о стиле жизни и поведения той поры: очень многое тогда не позволялось (разгульное веселье) и не могло быть предметом «советского искусства». В этом смысле работа является замечательным документом эпохи.
Создается впечатление, что собравшиеся готовы сделать снимок на память о столь важном в их жизни событии: никто никого не загораживает, как по известному принципу всякого группового снимка: если вы видите объектив, то объектив видит вас. И Петров-Водкин оказался здесь таким «фотографом».
Осенью 1938 Кузьму Сергеевича пригласили принять участие в художественном оформлении задуманного Дворца Советов. Предложение глубоко взволновало живописца, он принял его.
Но этим планам не суждено было осуществиться: он уже был болен туберкулезом. Болезнь быстро прогрессировала.
В ночь с 14 на 15 февраля 1939 Кузьма Сергеевич Петров-Водкин умер. Похоронен художник в Петербурге на Волковом кладбище.
Осенью 1938 Кузьму Сергеевича пригласили принять участие в художественном оформлении задуманного Дворца Советов. Предложение глубоко взволновало живописца, он принял его.
Но этим планам не суждено было осуществиться: он уже был болен туберкулезом. Болезнь быстро прогрессировала.
В ночь с 14 на 15 февраля 1939 Кузьма Сергеевич Петров-Водкин умер. Похоронен художник в Петербурге на Волковом кладбище.
Жизненная и творческая судьба Кузьмы Сергеевича сложна. Получивший признание (причем и «правых», и «левых») после триумфального успеха «Купания красного коня», он закончил свою художественную карьеру тем, что его — заслуженного художника РСФСР, председателя правления Ленинградского союза художников — картина «Новоселье» была отвергнута жюри при отборе произведений для показа на выставке «Индустрия социализма» в 1938. Полотно, снятое с подрамника, отправилось на долгие годы в запасники Третьяковской галереи.
Перелом в отношении к творческому наследию Петрова-Водкина наступил в 1960-е. Тогда было устроено несколько обширных экспозиций его творений, для многих явившихся откровением. Были также переизданы его автобиографические повести и опубликованы документы, касающиеся жизни и творчества.
Художник получил признание как один из выдающихся мастеров первых десятилетий XX века. Его произведения — желанные лоты для крупнейших аукционных домов мира.
Перелом в отношении к творческому наследию Петрова-Водкина наступил в 1960-е. Тогда было устроено несколько обширных экспозиций его творений, для многих явившихся откровением. Были также переизданы его автобиографические повести и опубликованы документы, касающиеся жизни и творчества.
Художник получил признание как один из выдающихся мастеров первых десятилетий XX века. Его произведения — желанные лоты для крупнейших аукционных домов мира.
Наш тест посвящен жизни и творчеству Кузьмы Петрова-Водкина. Давайте узнаем, насколько хорошо вы знаете этого выдающегося русского художника. Ну что? Готовы? Поехали!
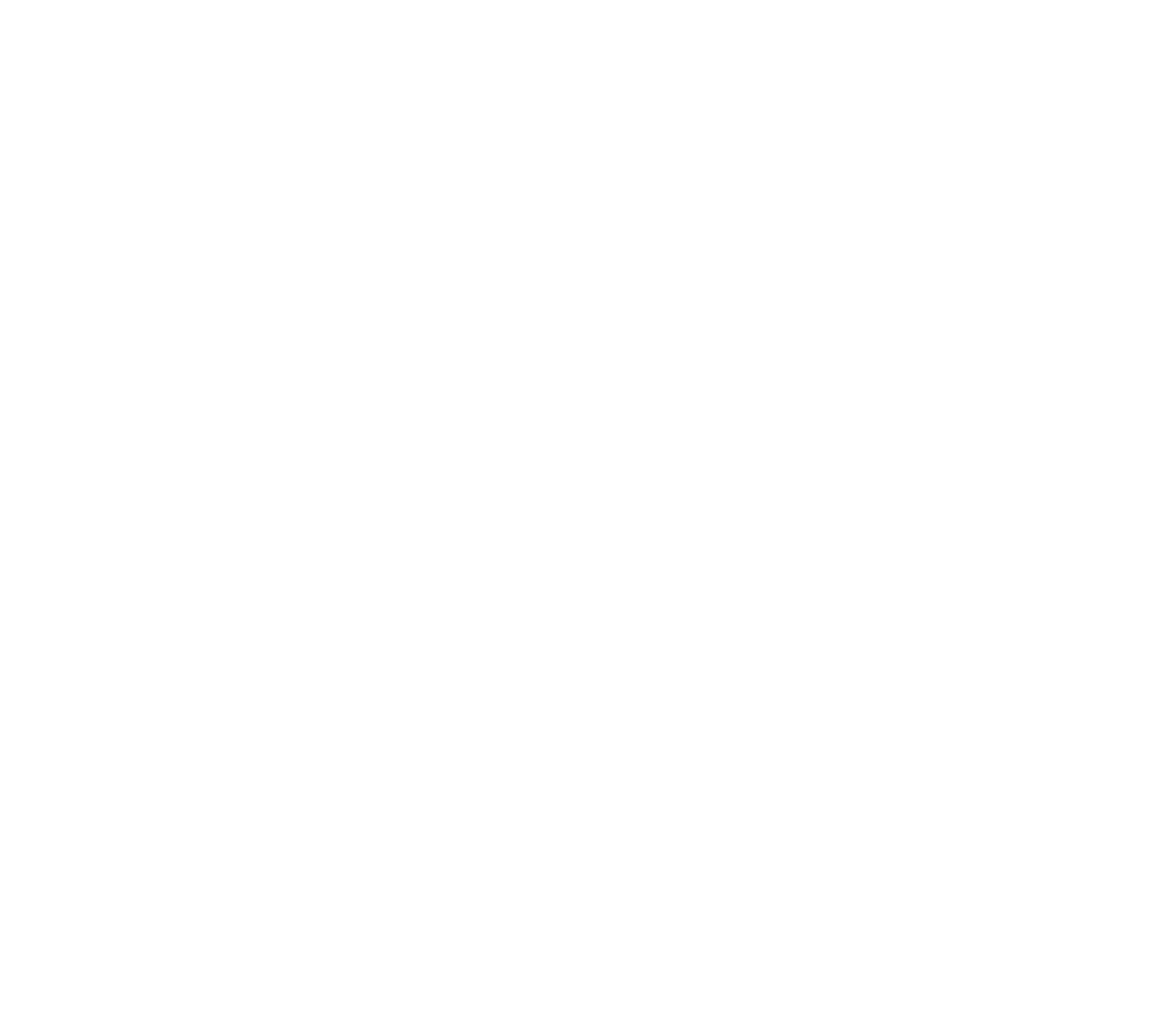
| Начать тест |
В каком городе родился Кузьма Петров-Водкин?
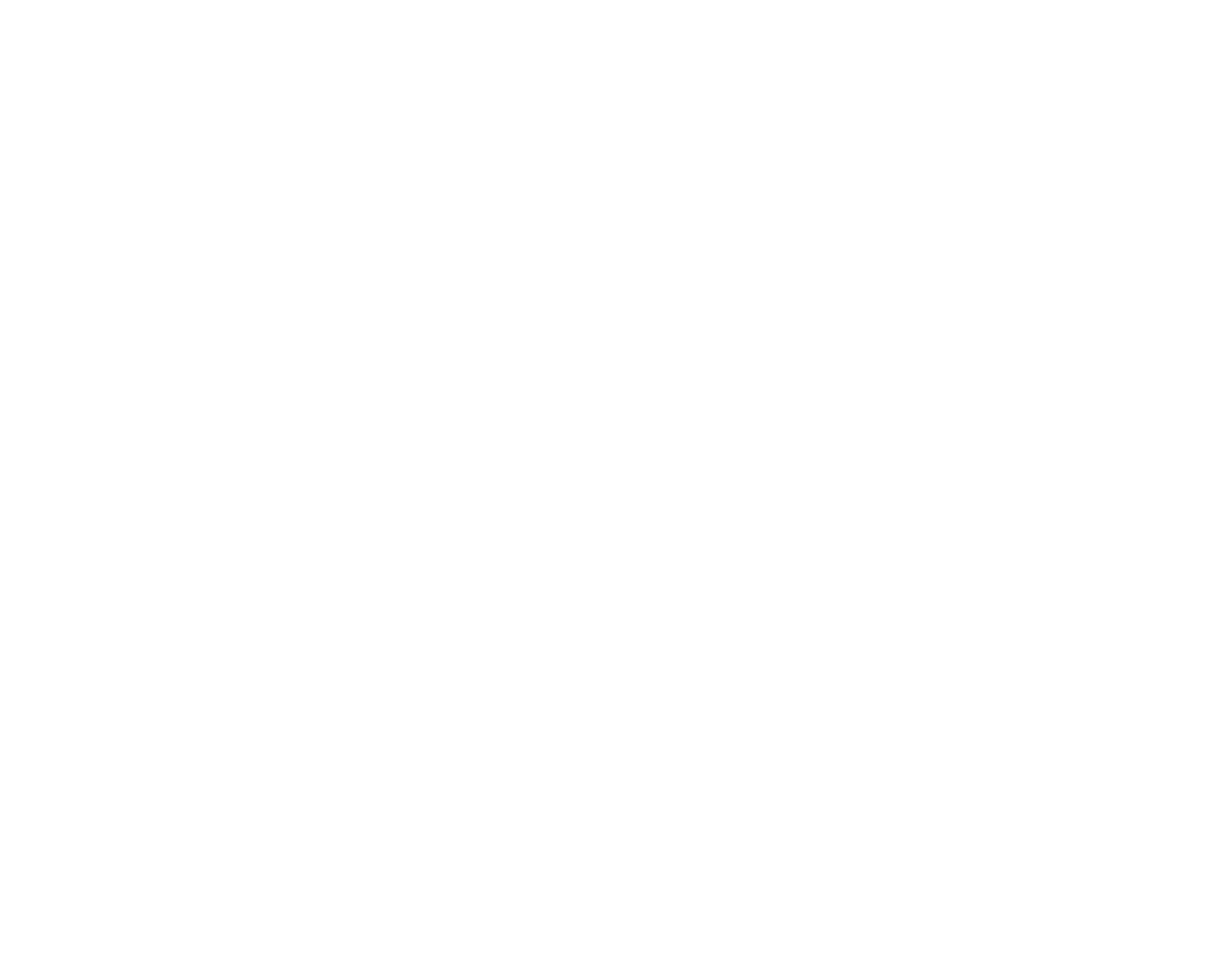
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В мастерской какого художника обучался Петров-Водкин, когда поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества?
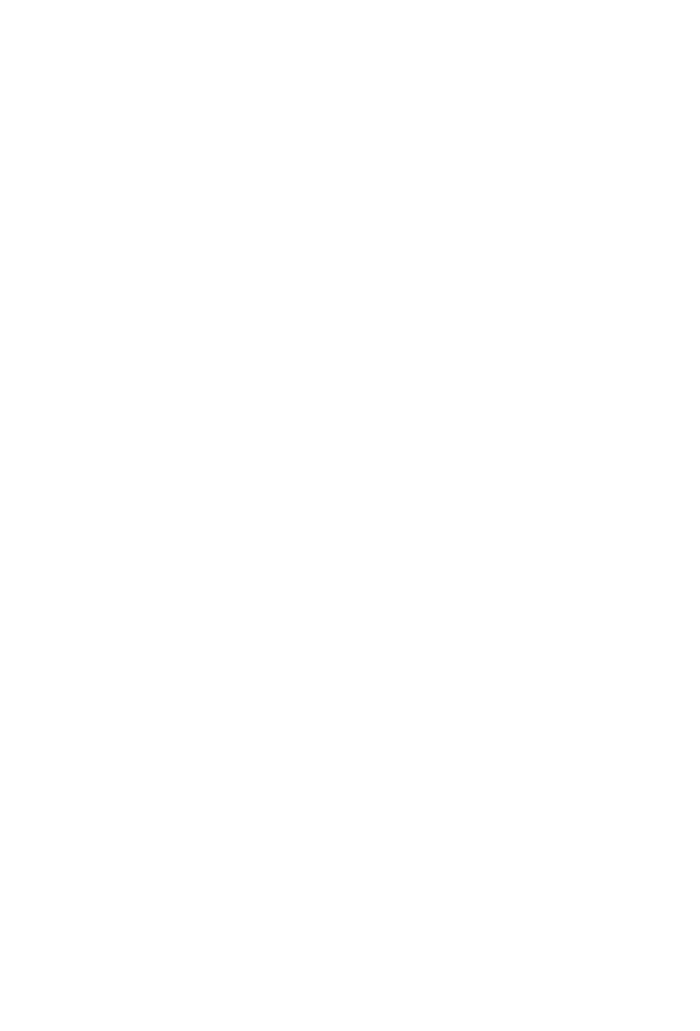
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как называется это полотно?
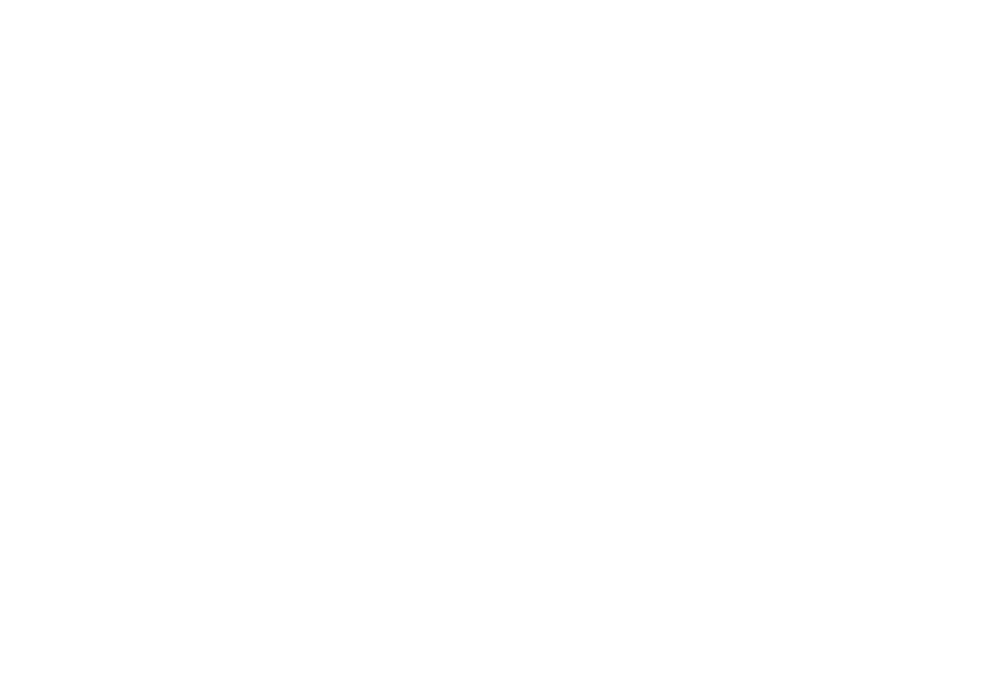
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как называется книга, которую написал Петров-Водкин?
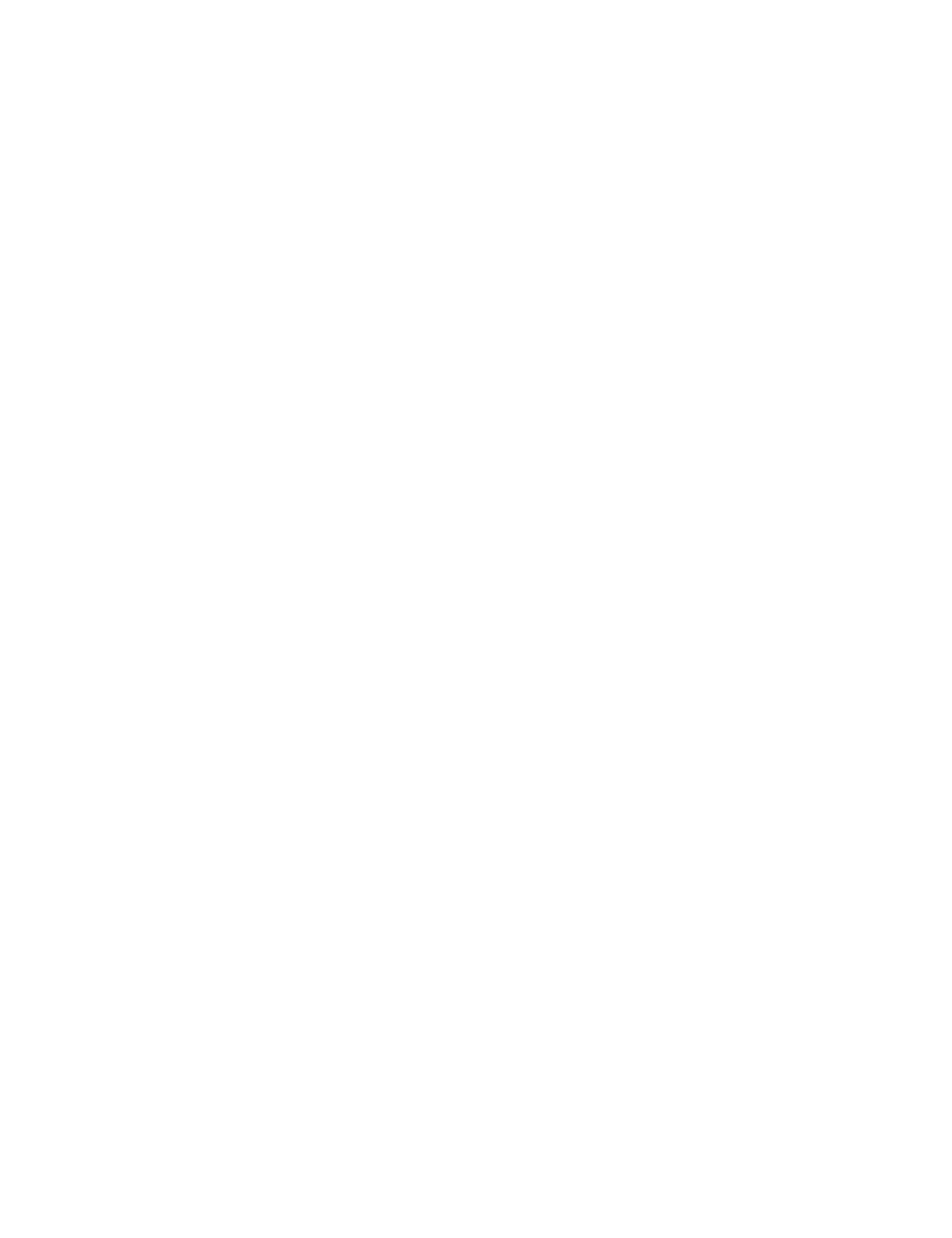
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто из перечисленных авторов написал эту картину?
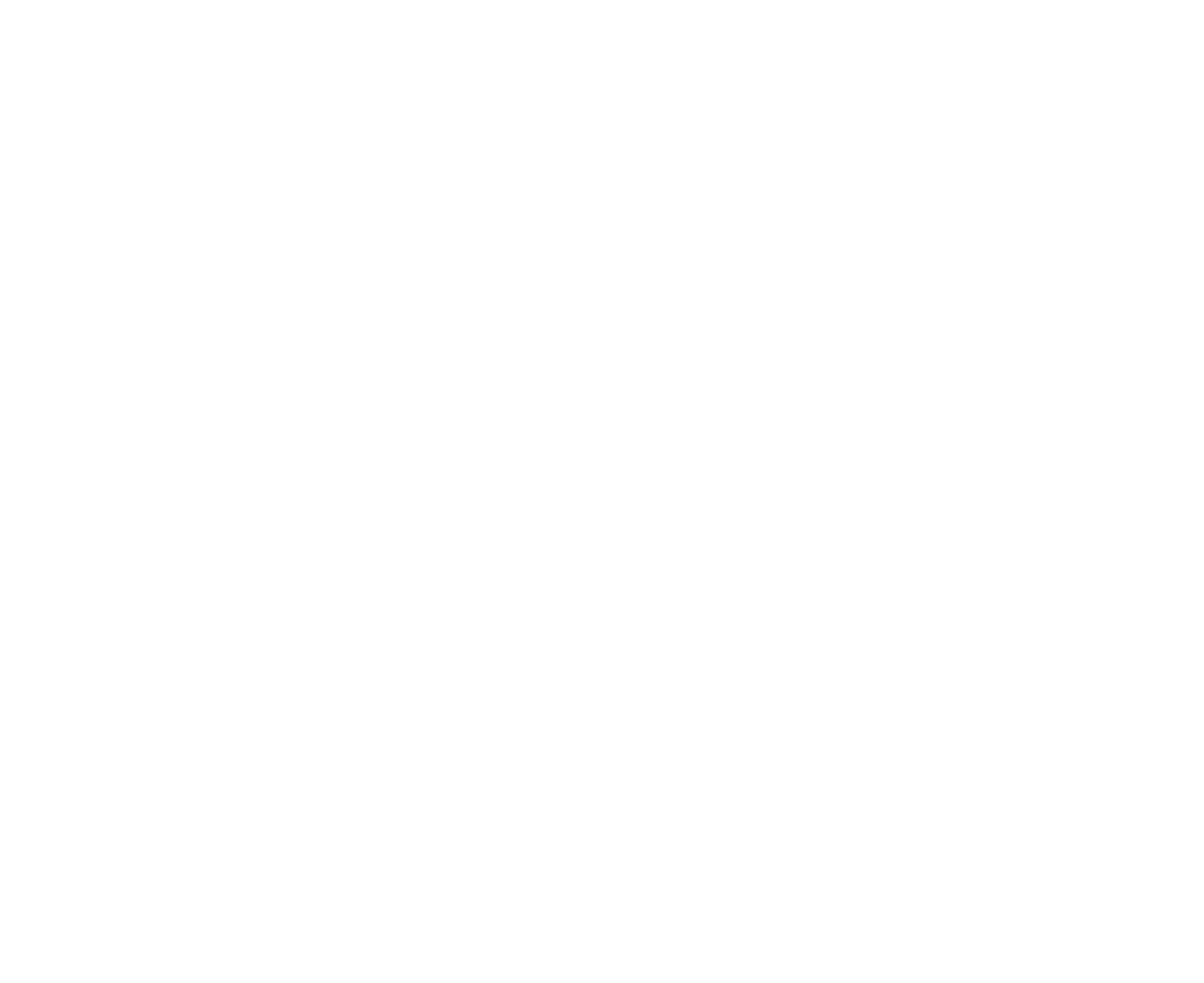
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как называется самое известное полотно Петрова-Водкина?
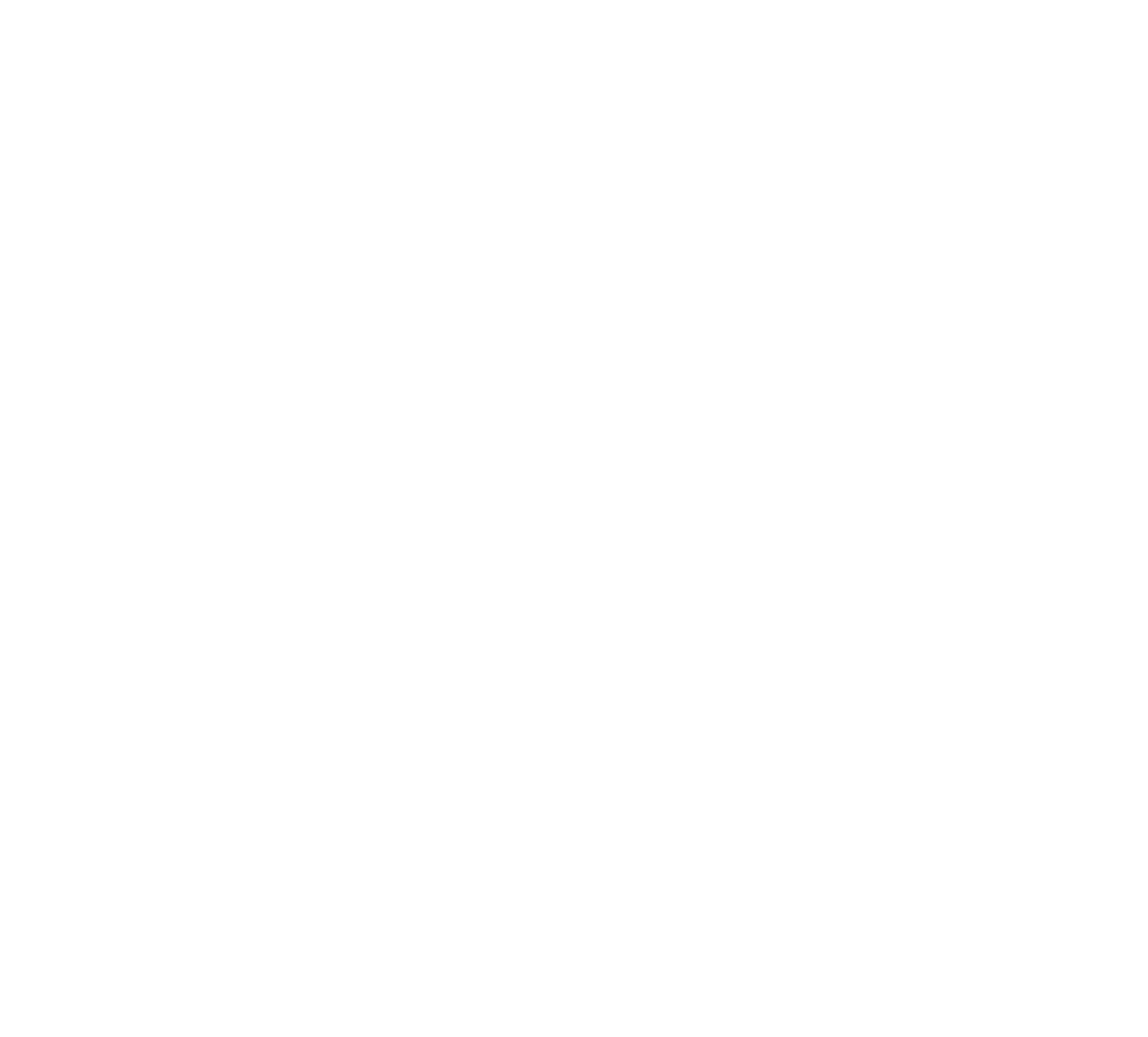
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто из перечисленных авторов написал эту картину?
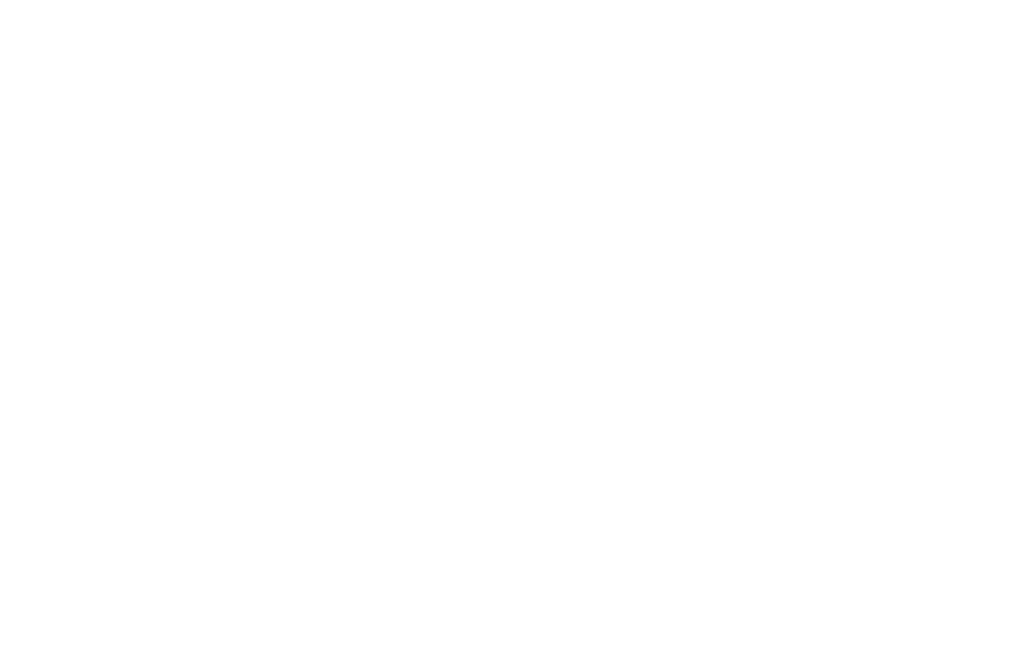
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В 1921 году К. Петров-Водкин был включен в состав экспедиции, направленной Главным комитетом по делам музеев, охране памятников искусства, старины и природы, совместно с Российской академией истории материальной культуры. Куда поехал художник?
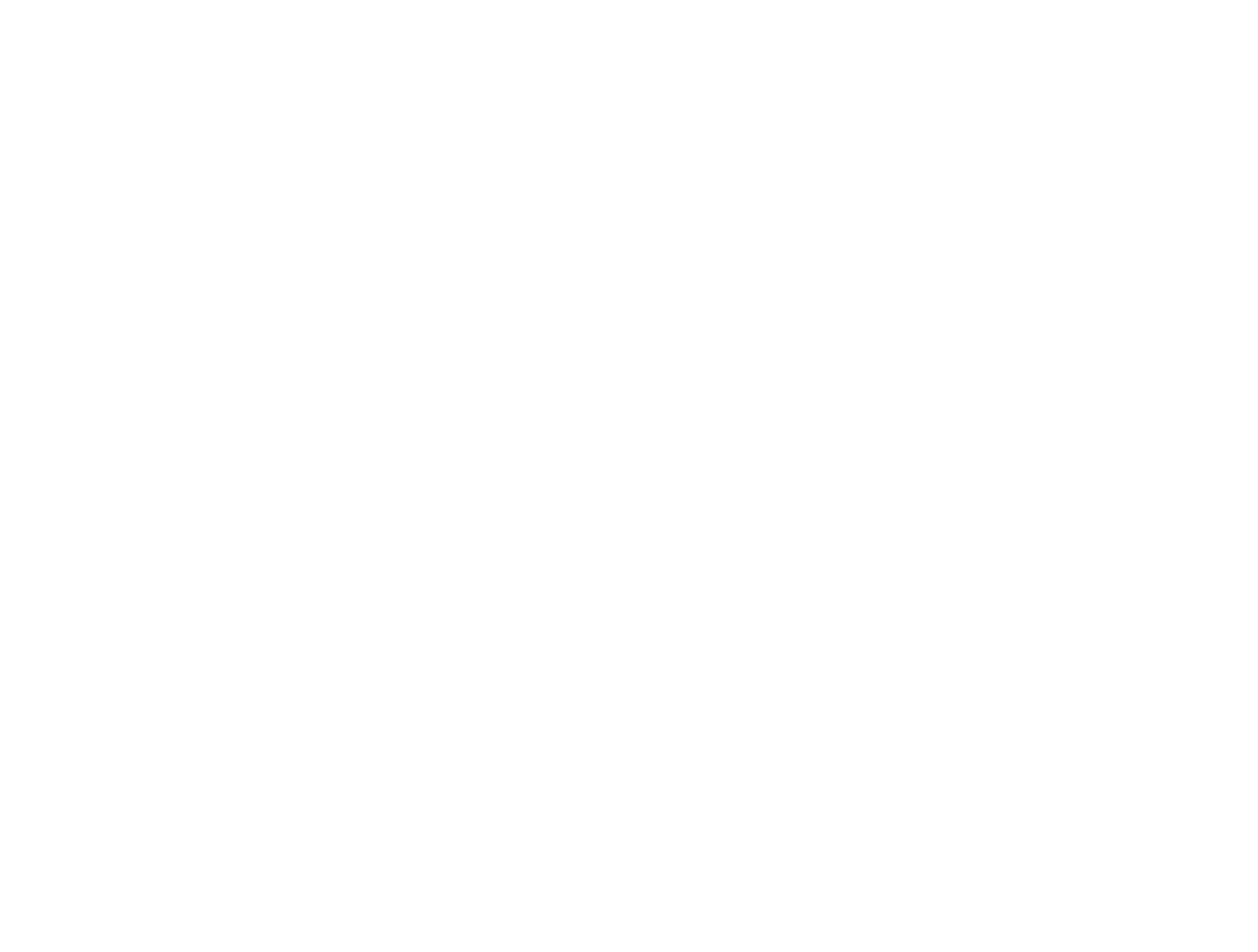
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Как называется эта работа, созданная художником в 1918 году?
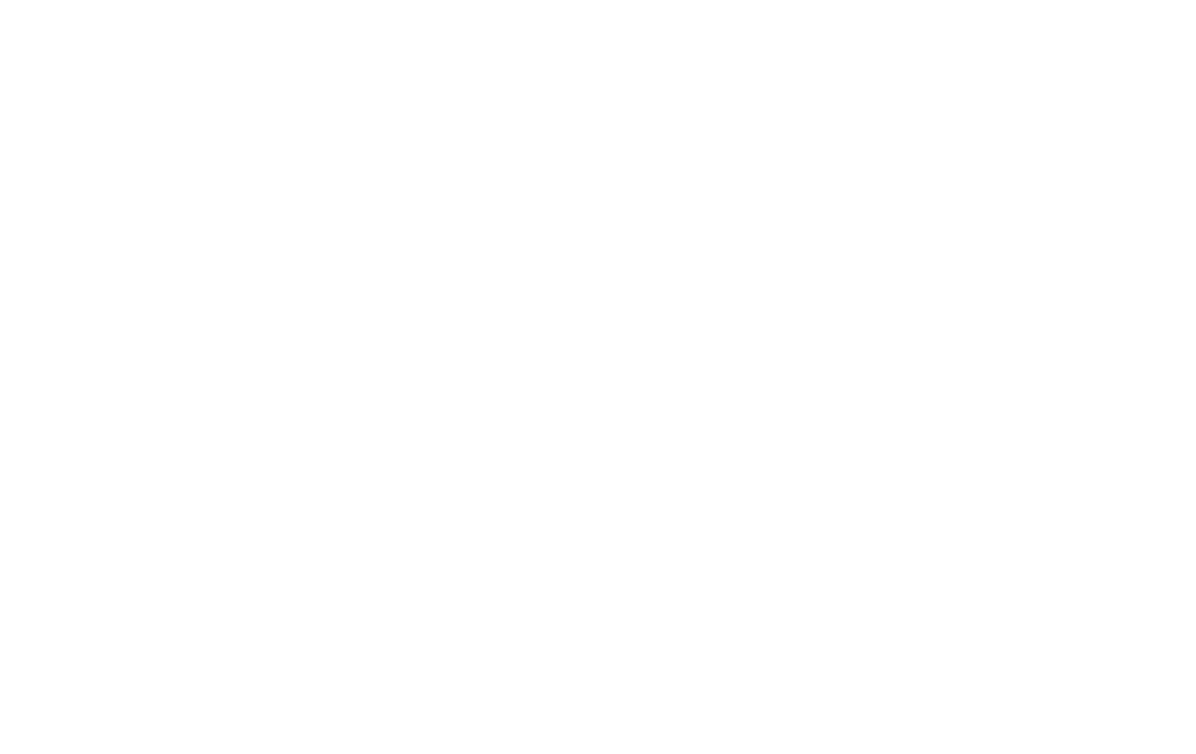
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто написал это полотно?
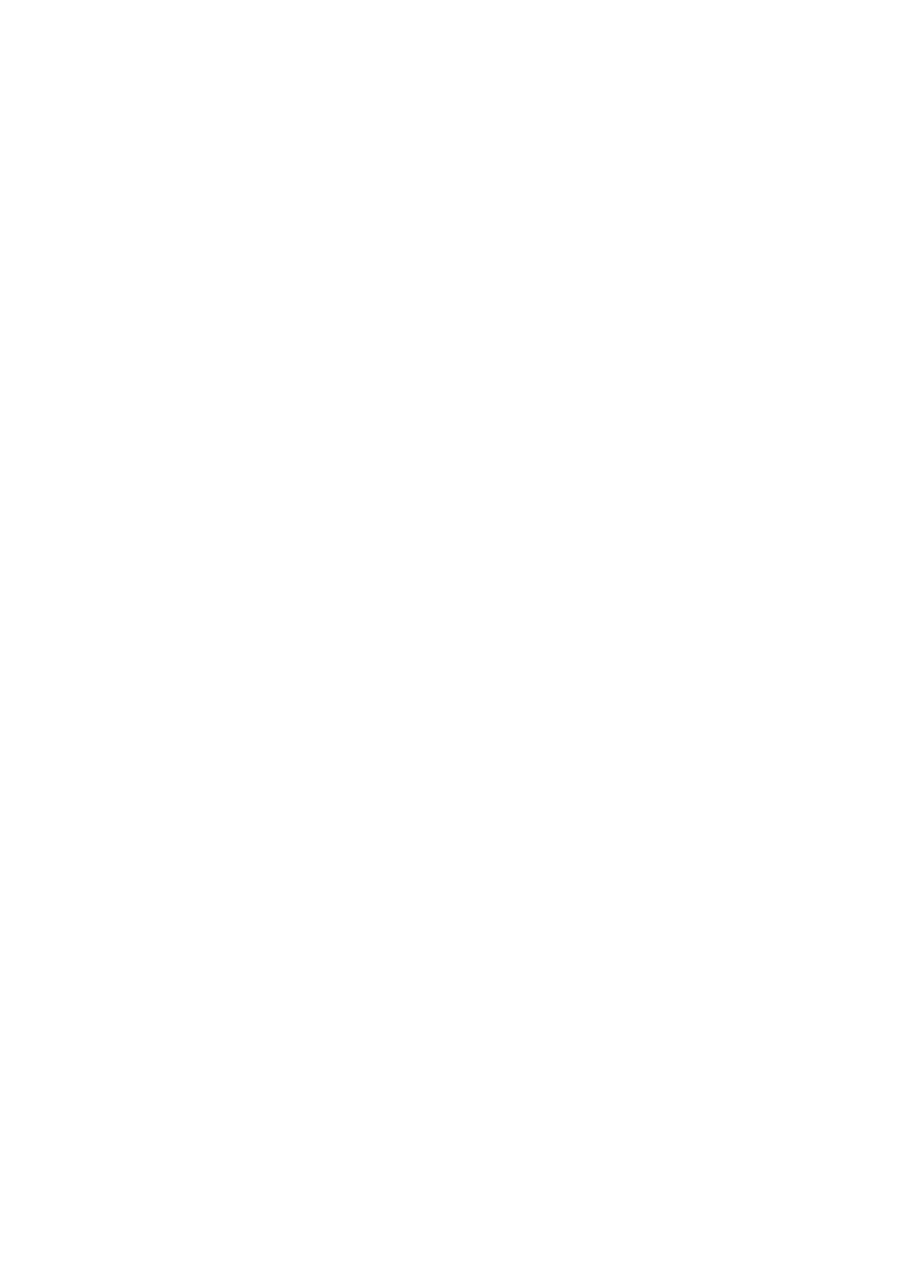
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто автор этого портрета?
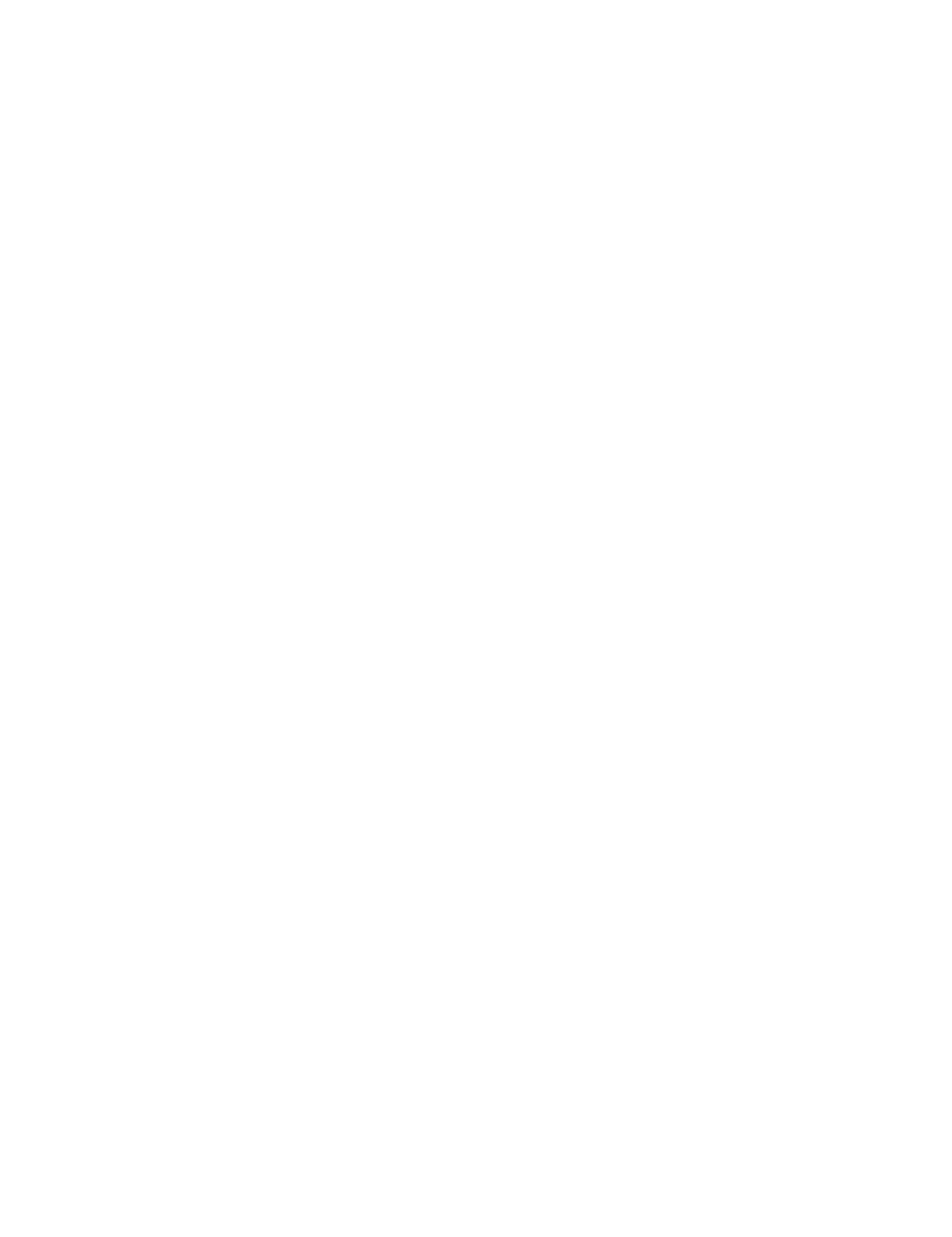
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А кто написал эту работу?
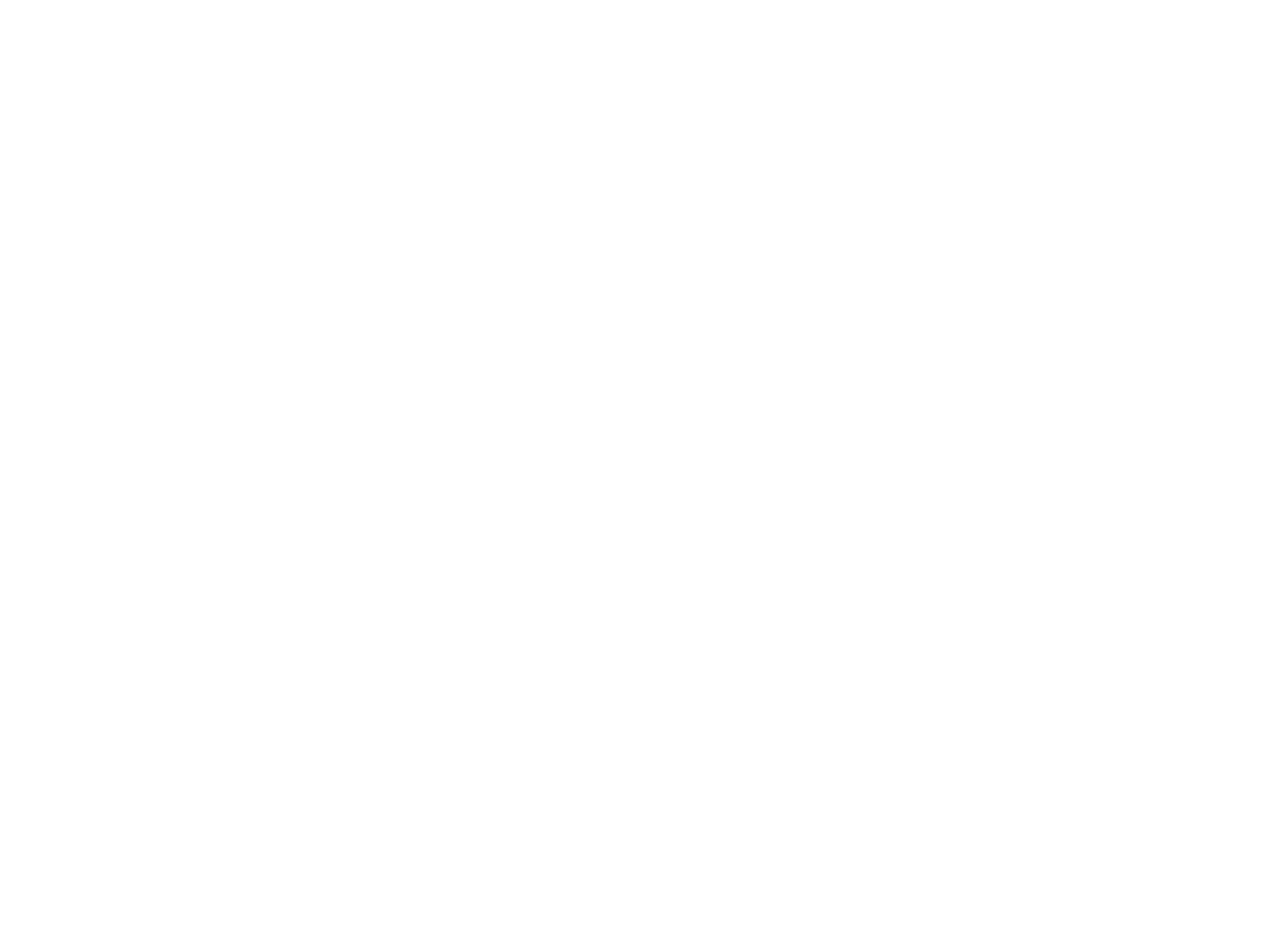
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
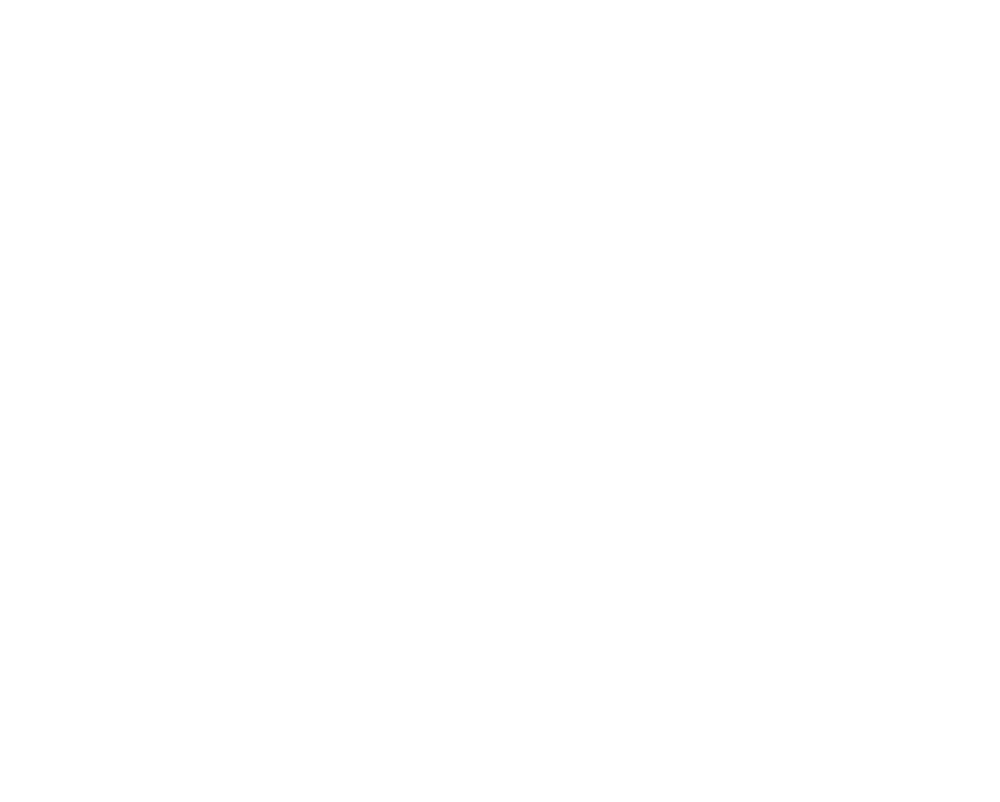
Ой…
Но не стоит расстраиваться! На нашем сайте вы можете продолжить знакомство с миром искусства.
| Пройти еще раз |
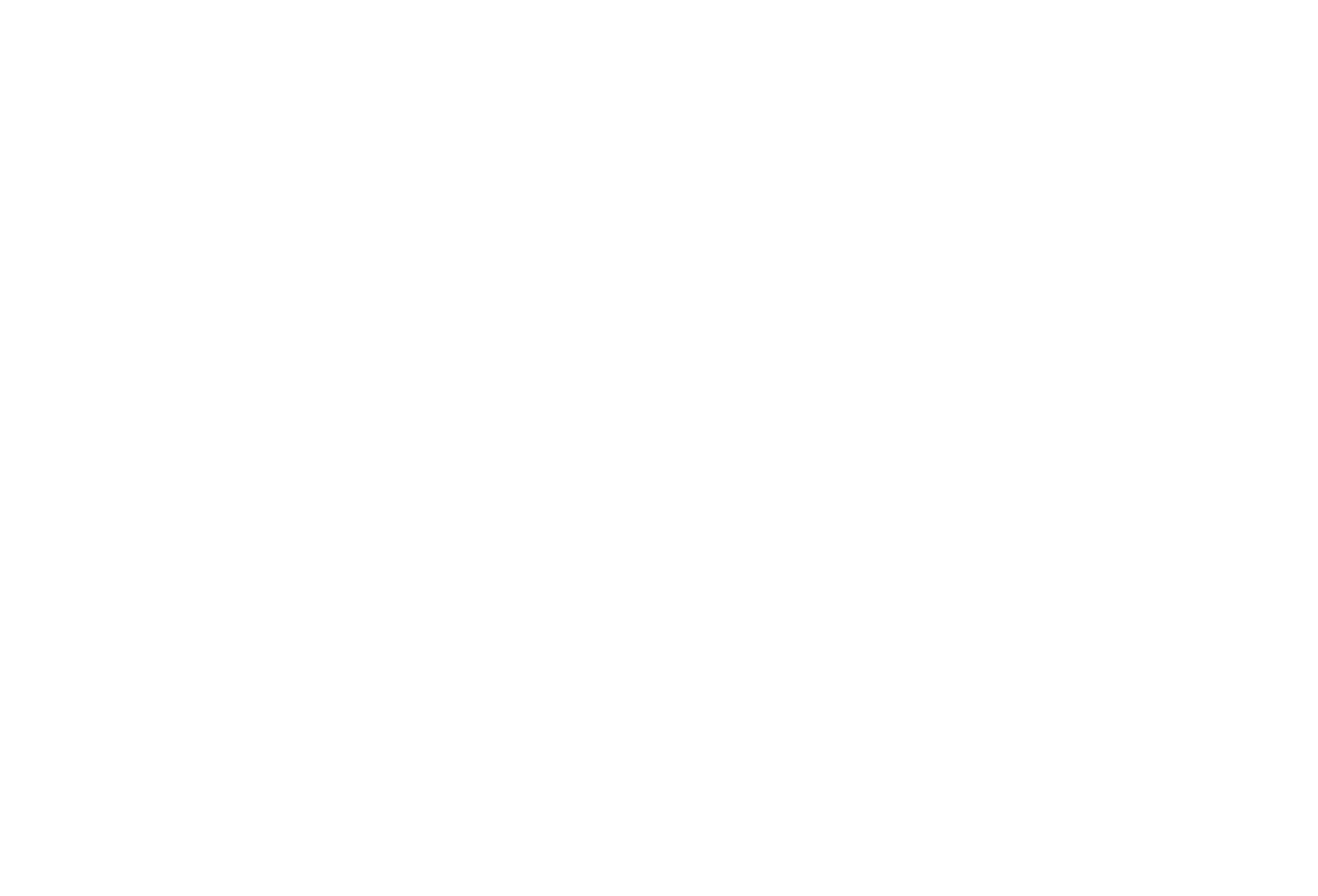
Неплохо!
Ошибок многовато, но очевидно, что вы искренне любите искусство.
| Пройти еще раз |
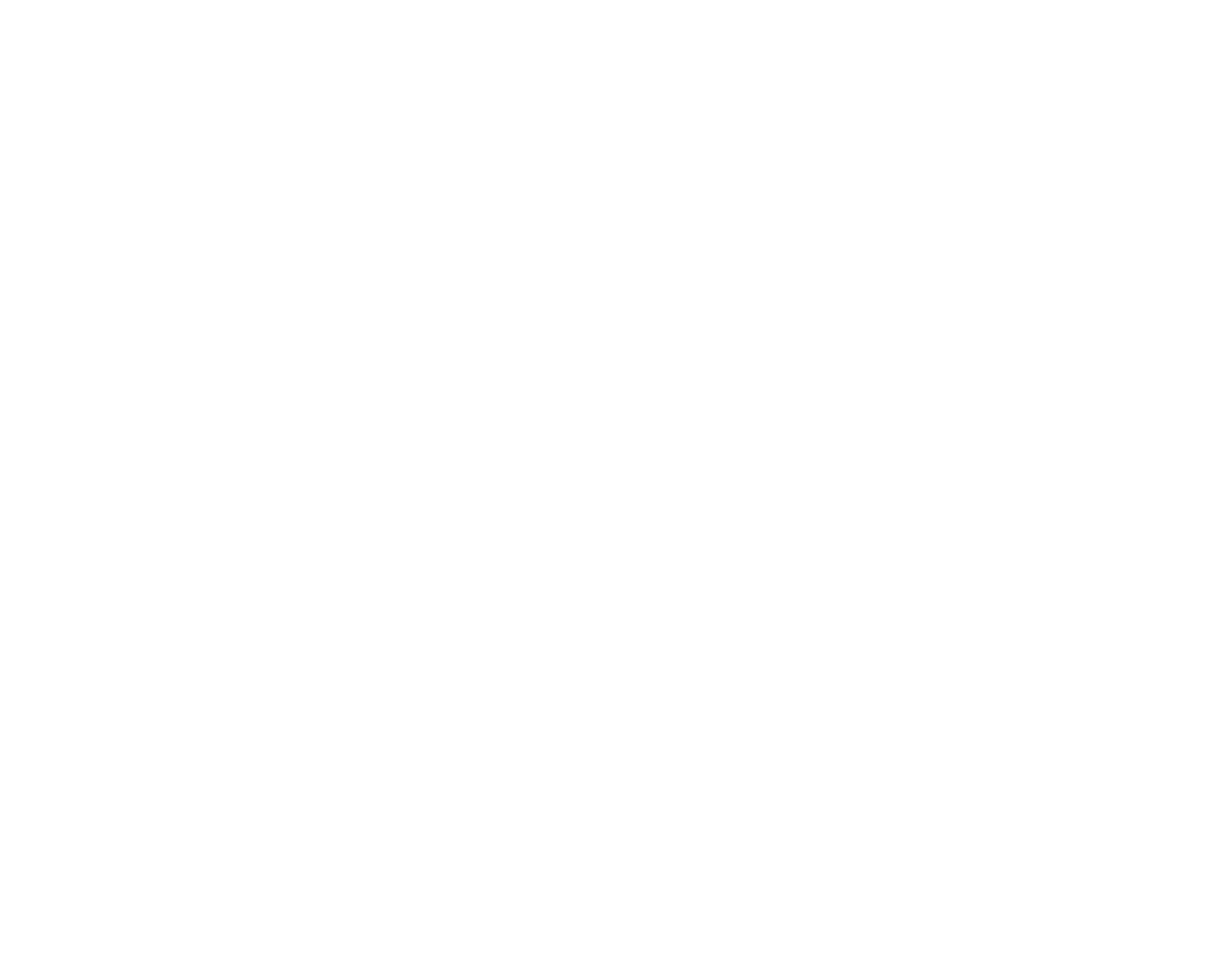
Хорошо!
Да, это была нелёгкая задача угадать названия произведений. Не все удалось «опознать», но больше половины правильных ответов – за вами.
| Пройти еще раз |
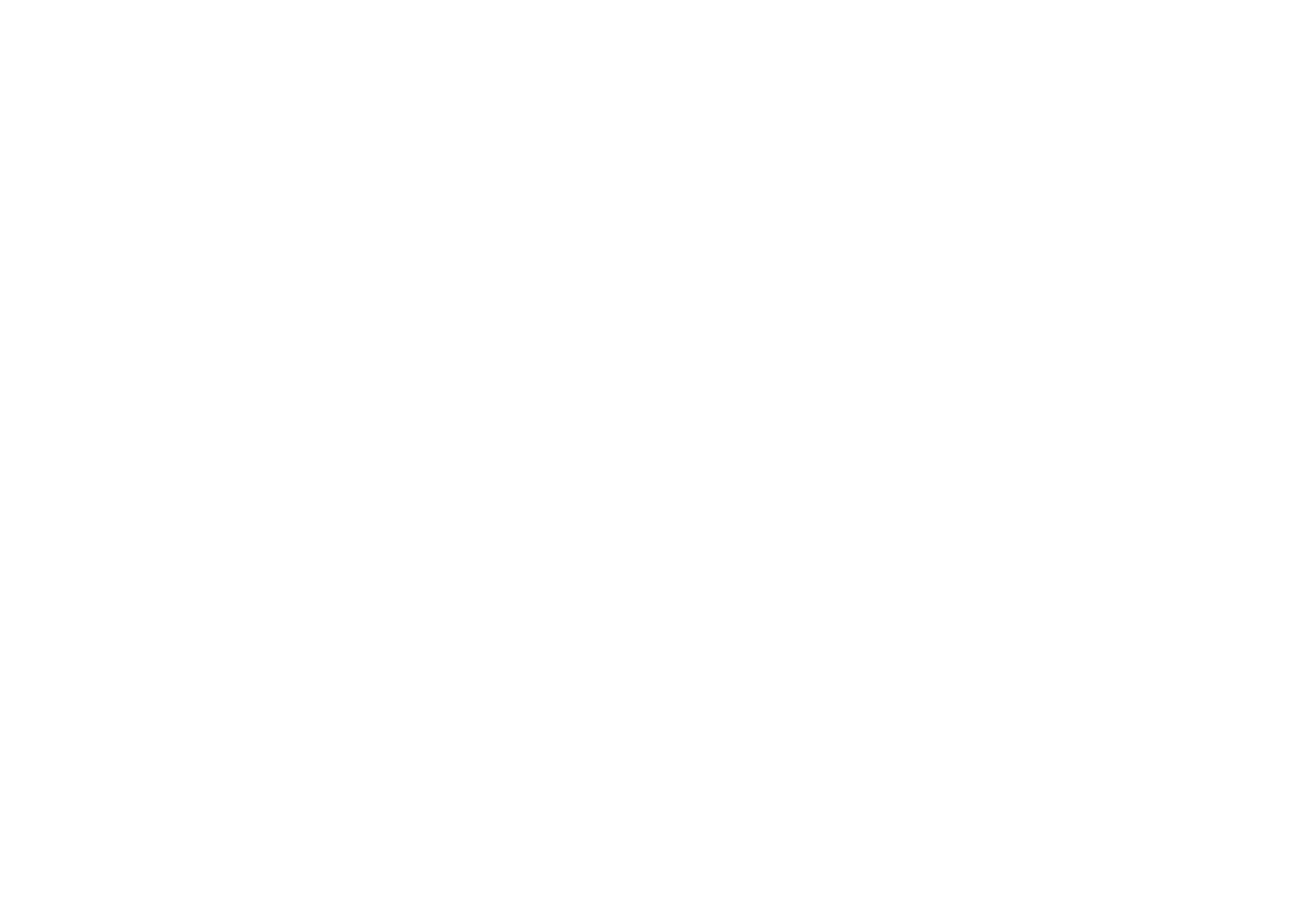
Блестяще!
Вы настоящий знаток! Ваши память и внимательность – поразительны! Примите наши поздравления, таких результатов добиваются немногие!
| Пройти еще раз |

Над выпуском работали:
Автор текста: А. Майкапар
Автор теста: М. Гордеева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru
Автор теста: М. Гордеева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru