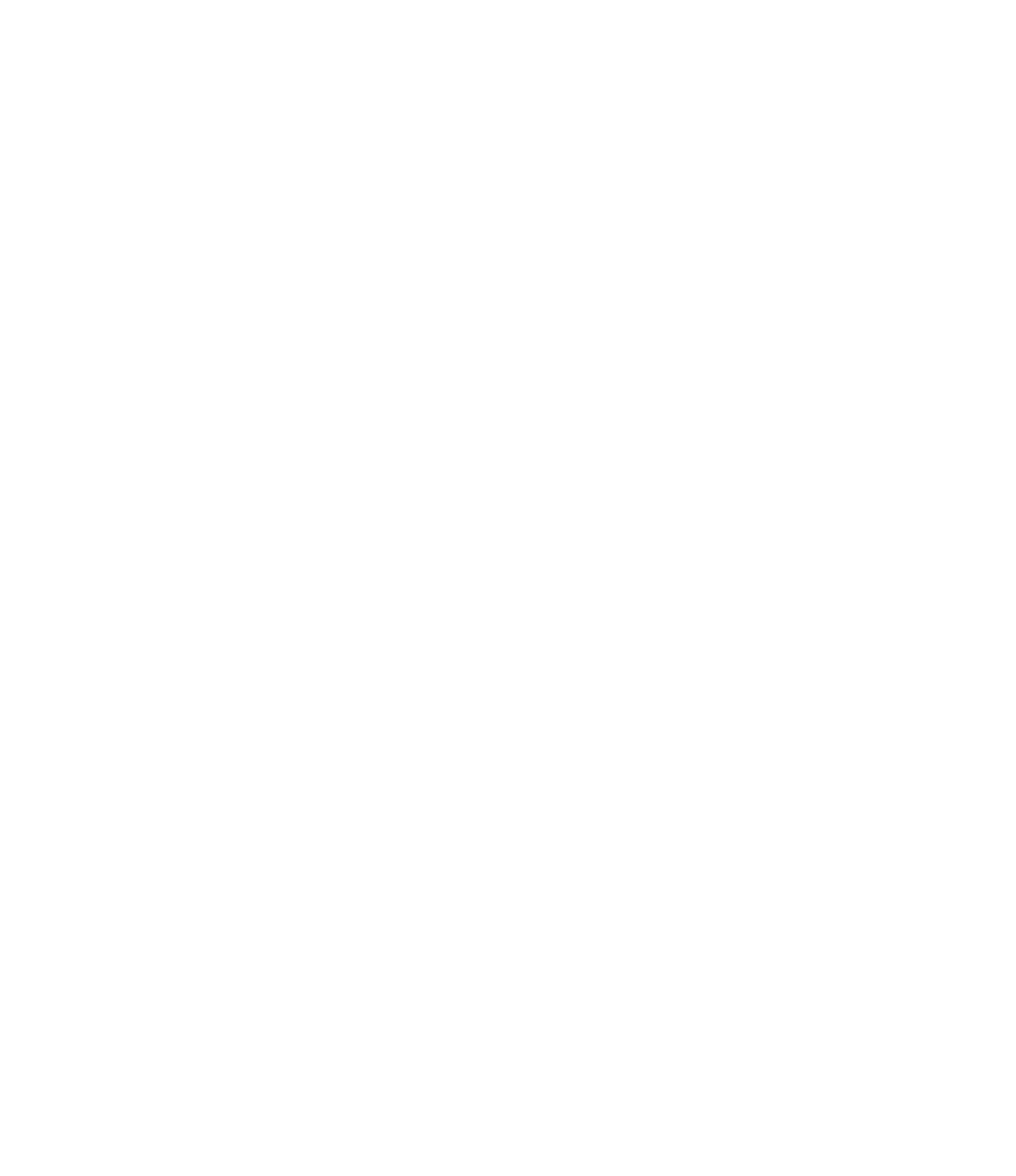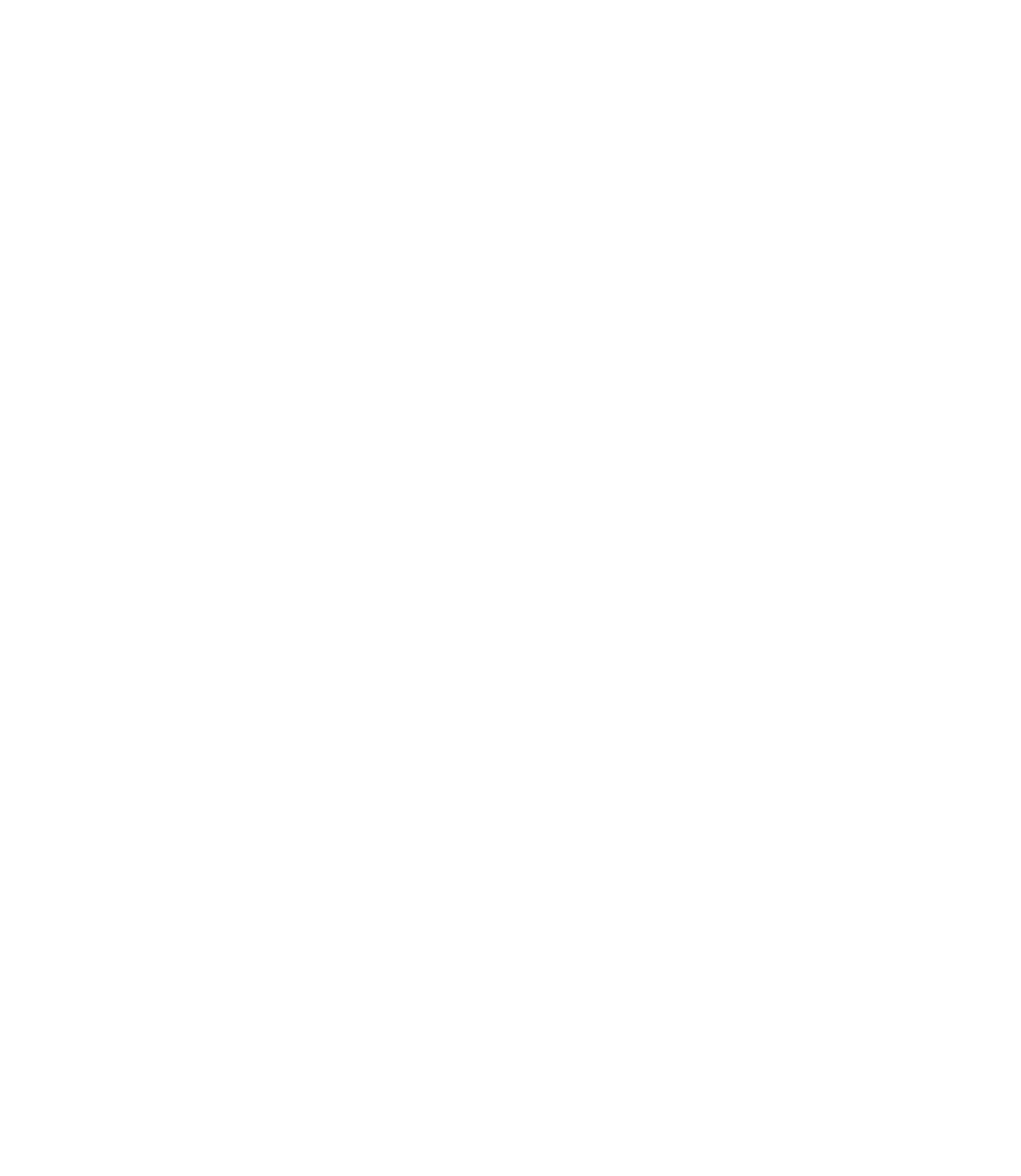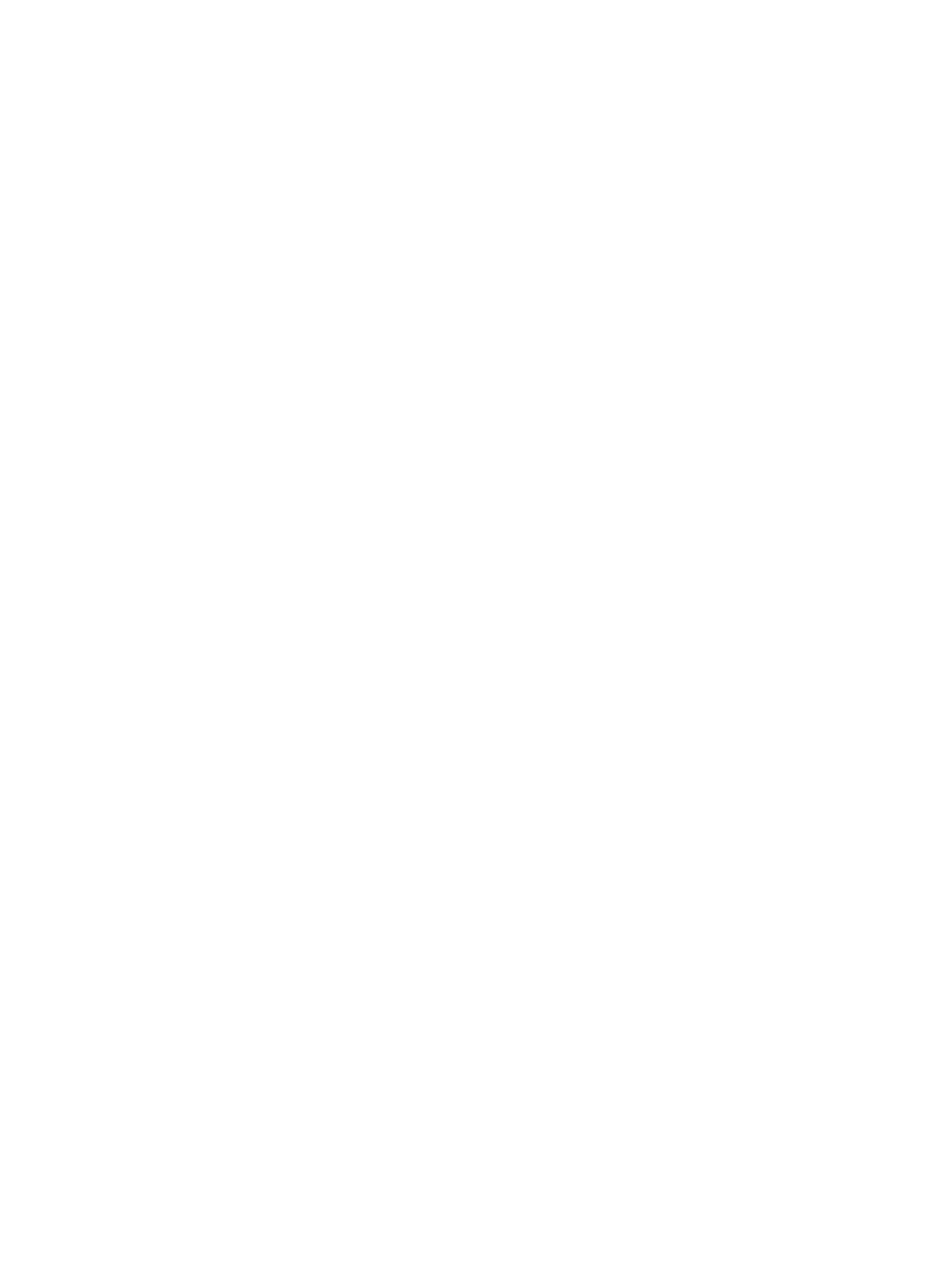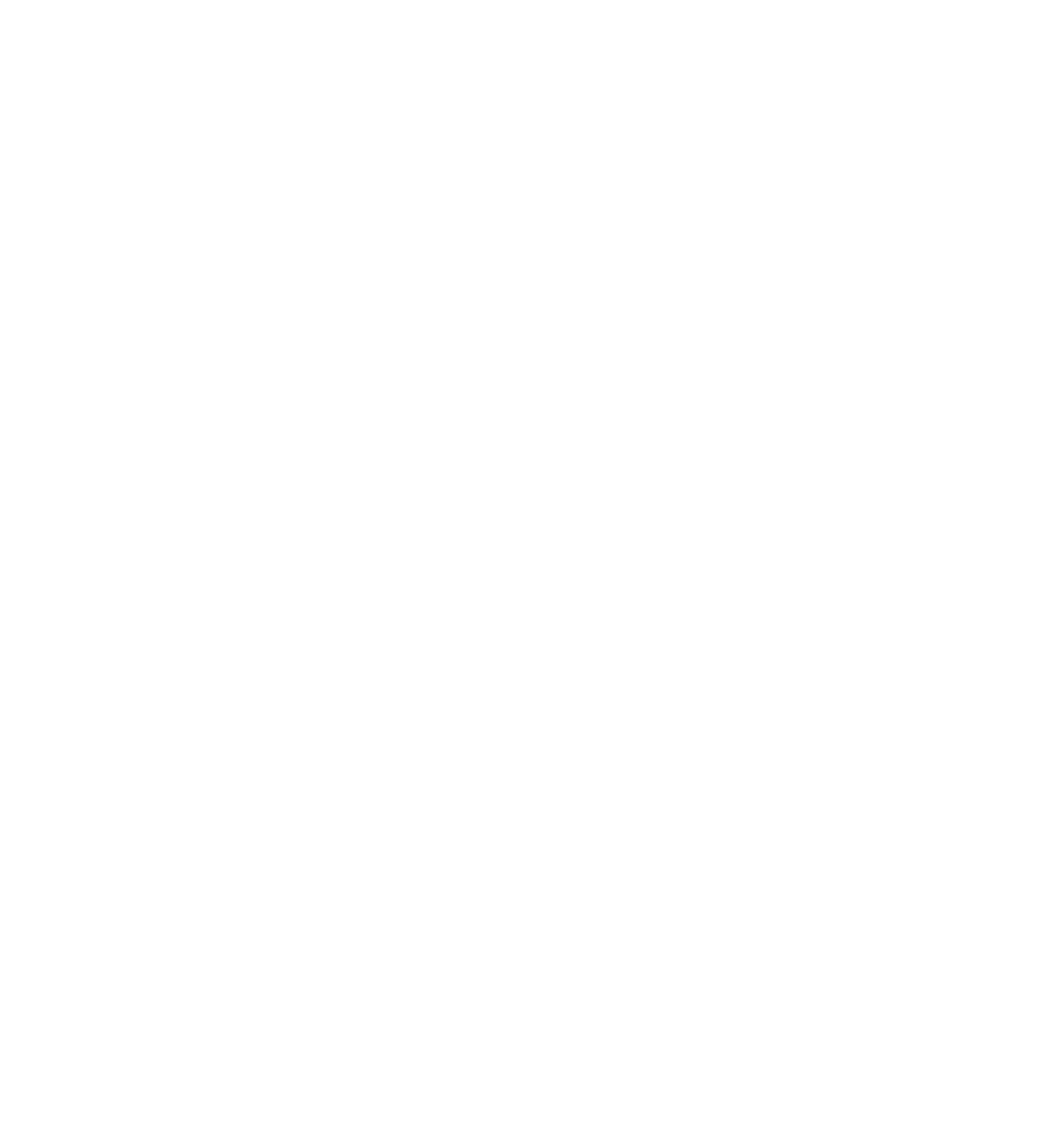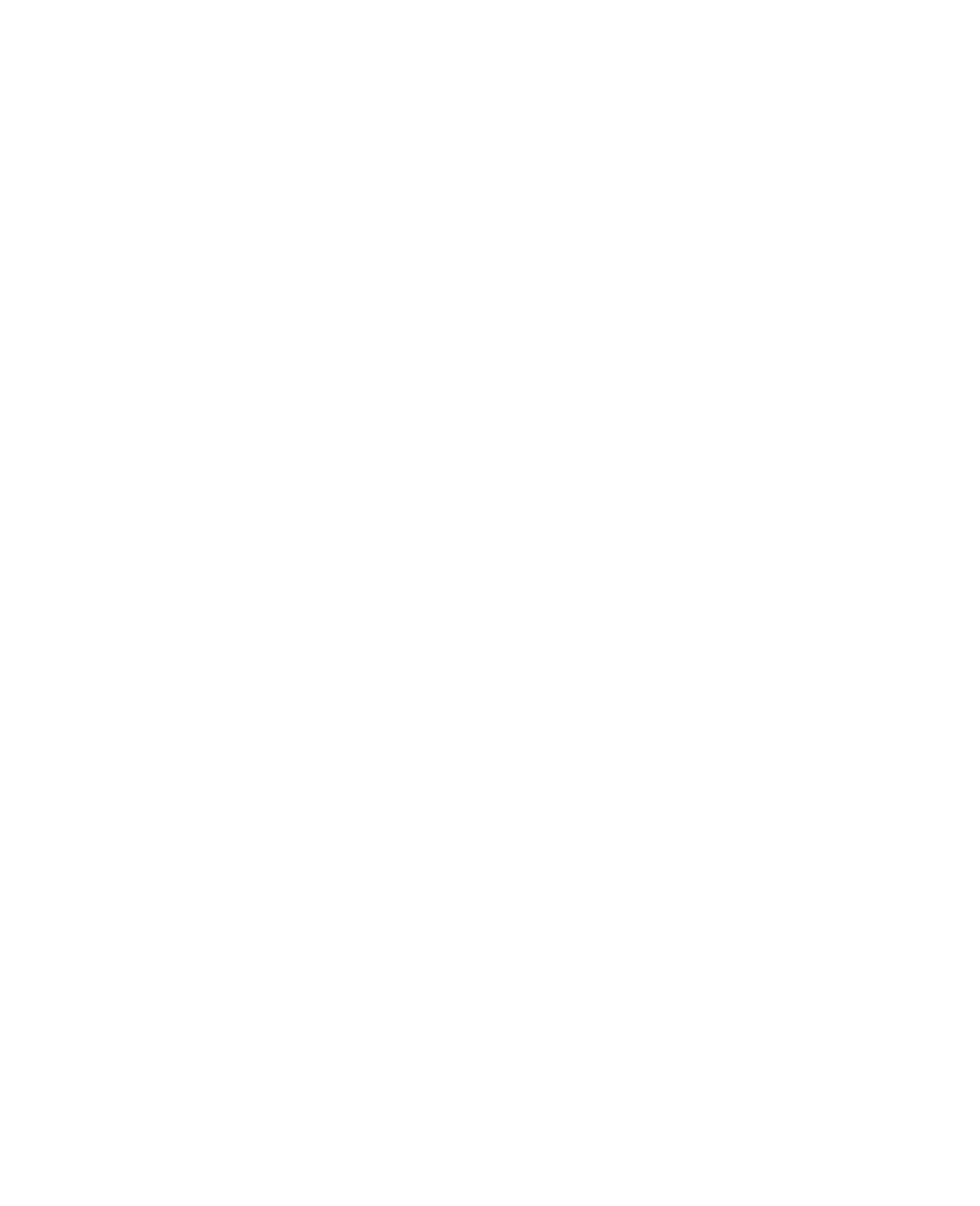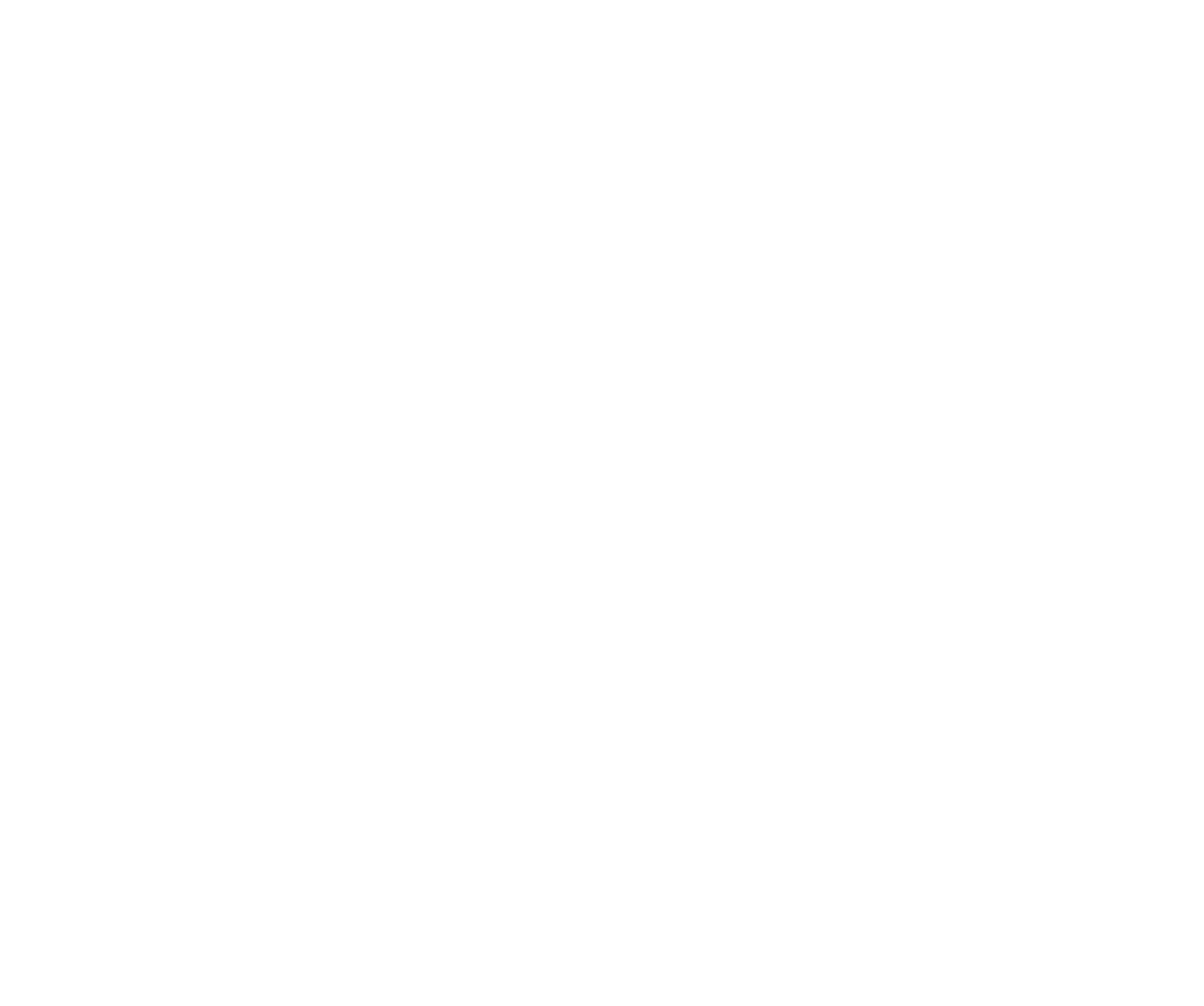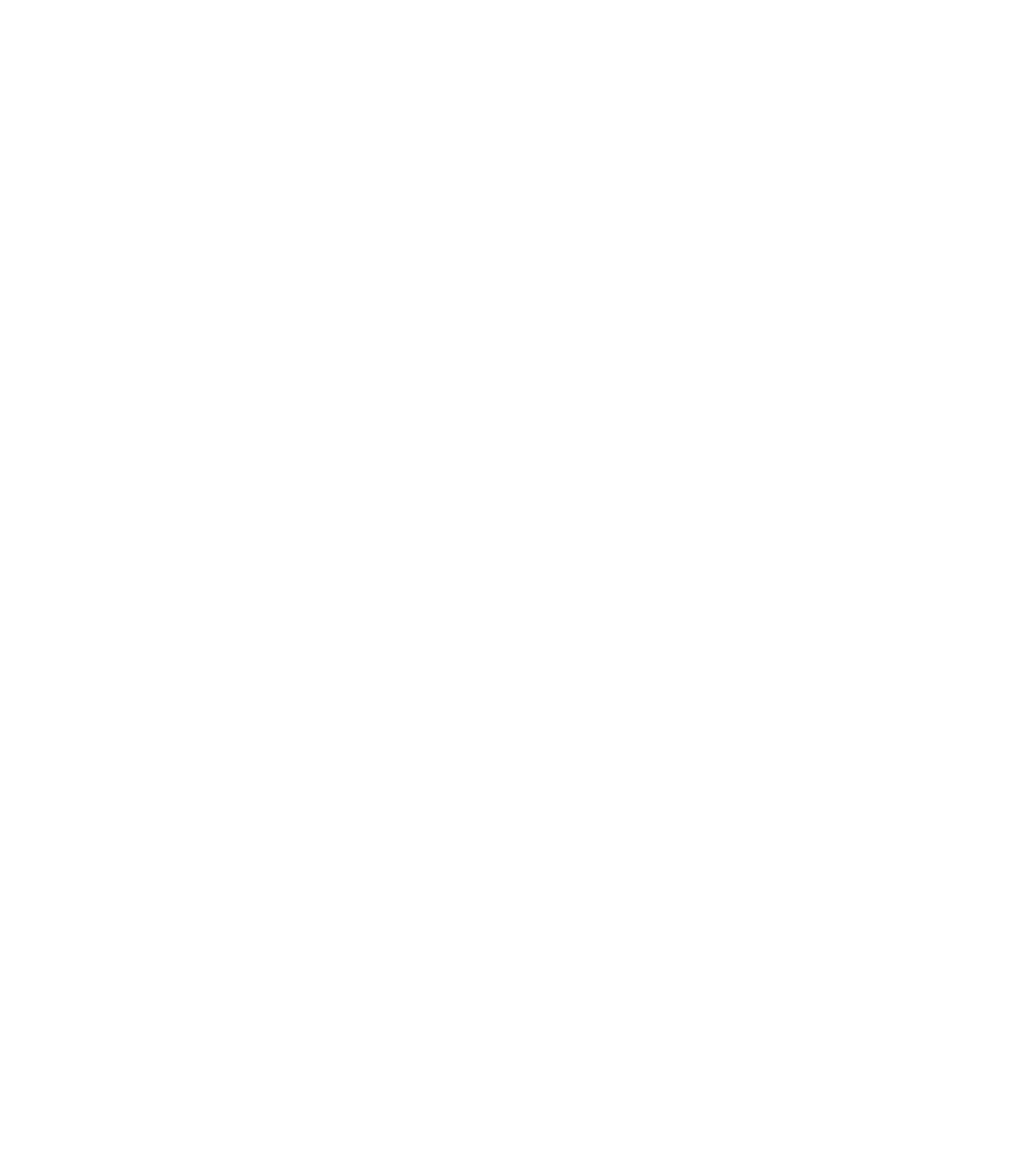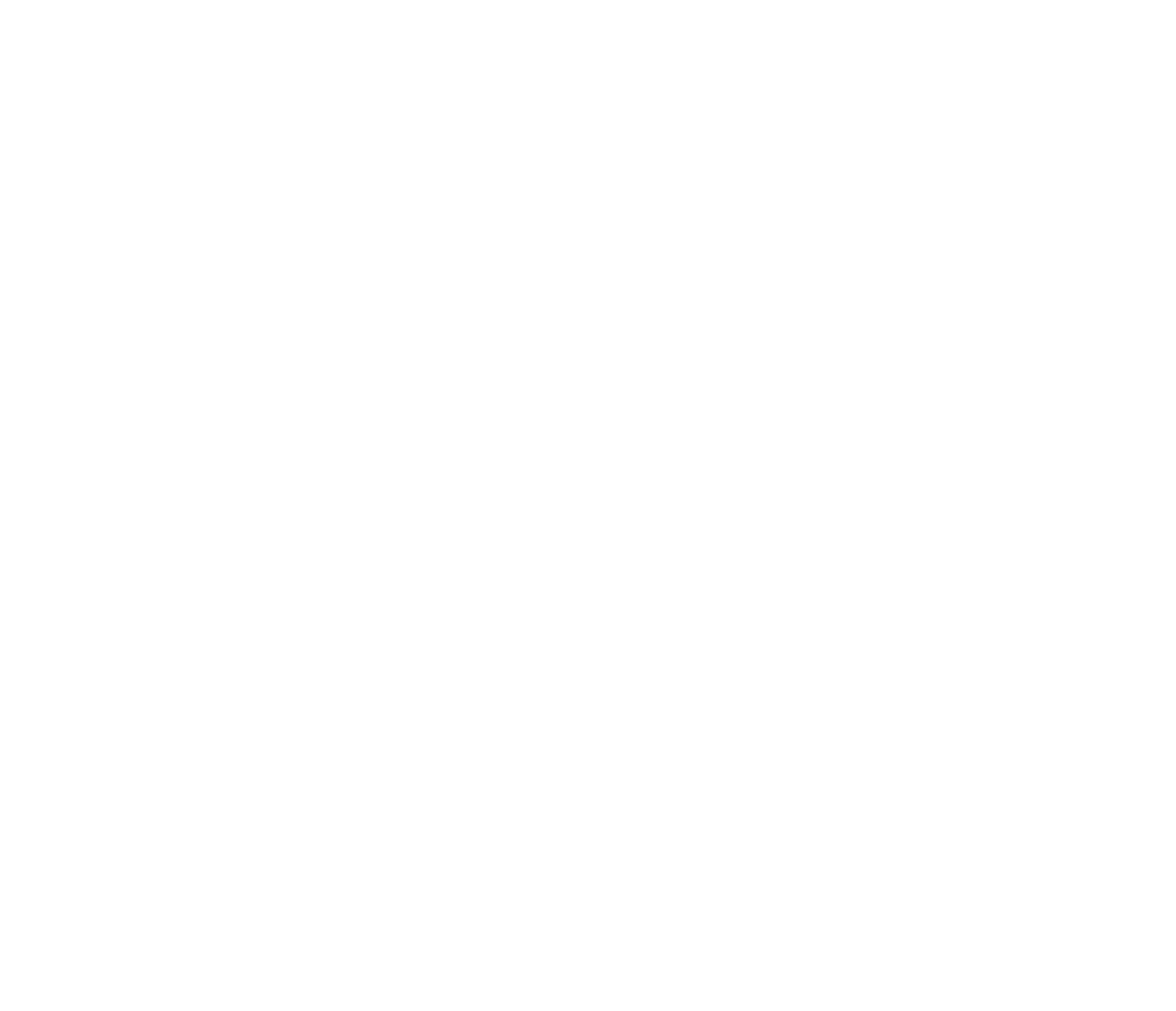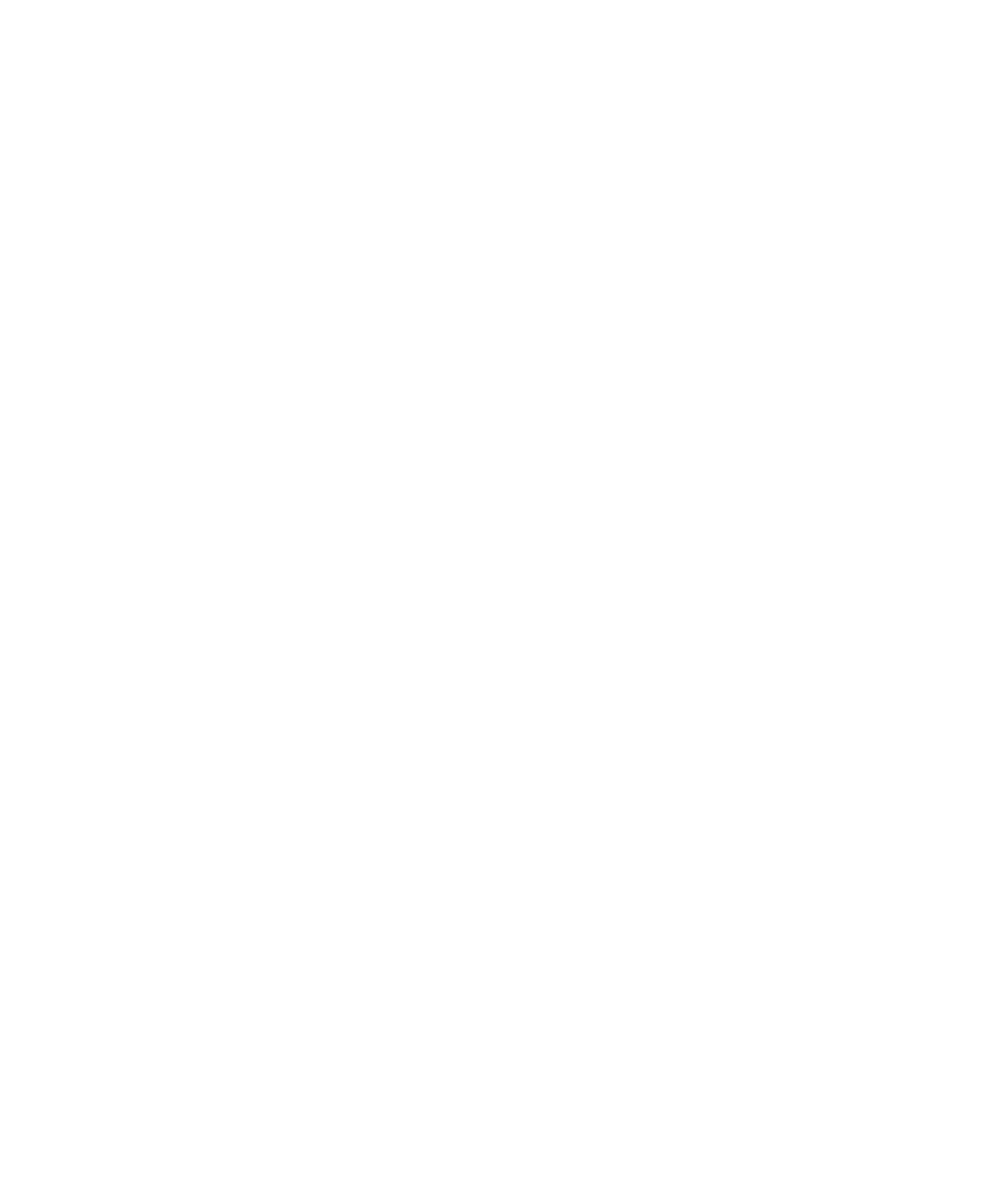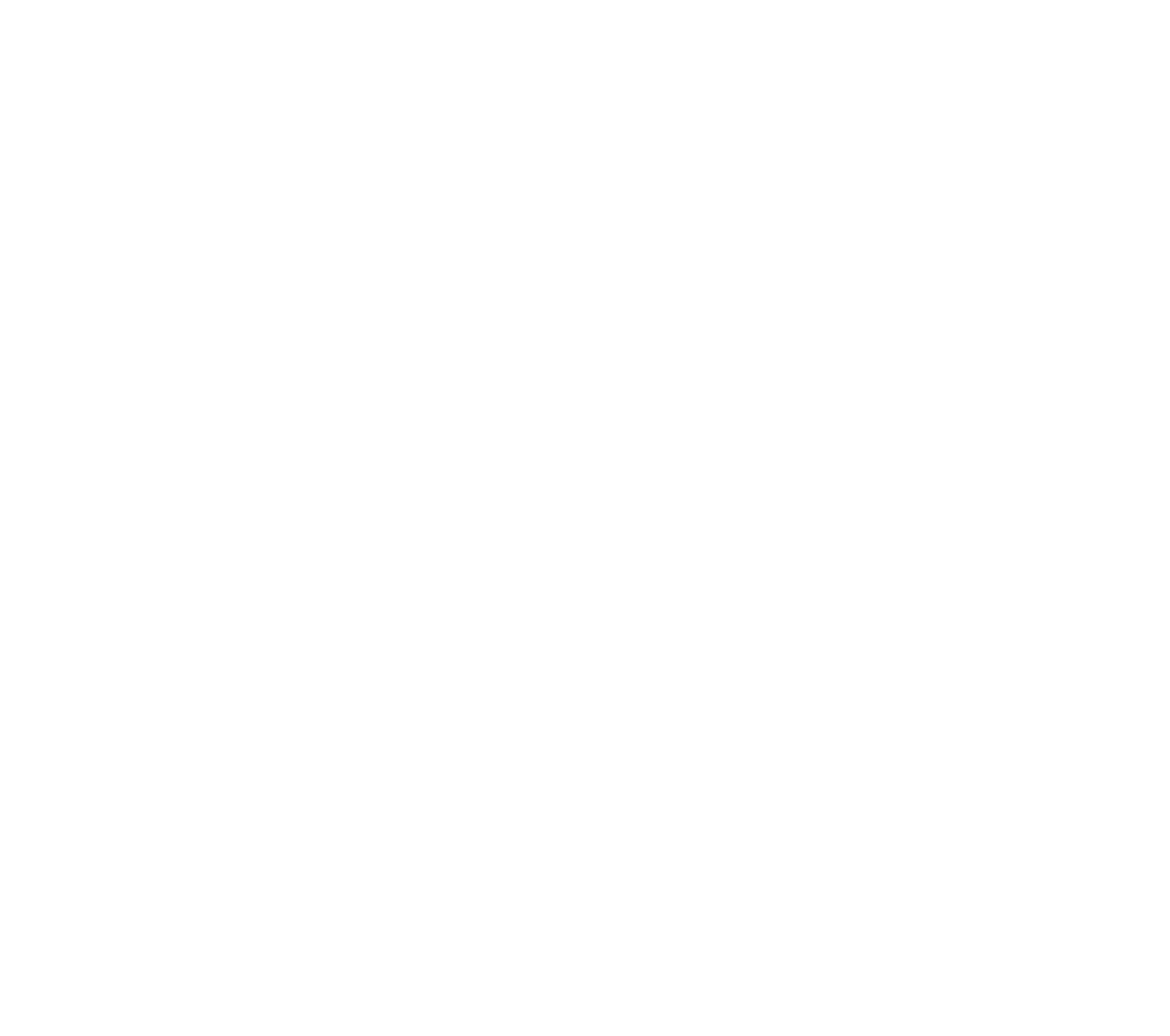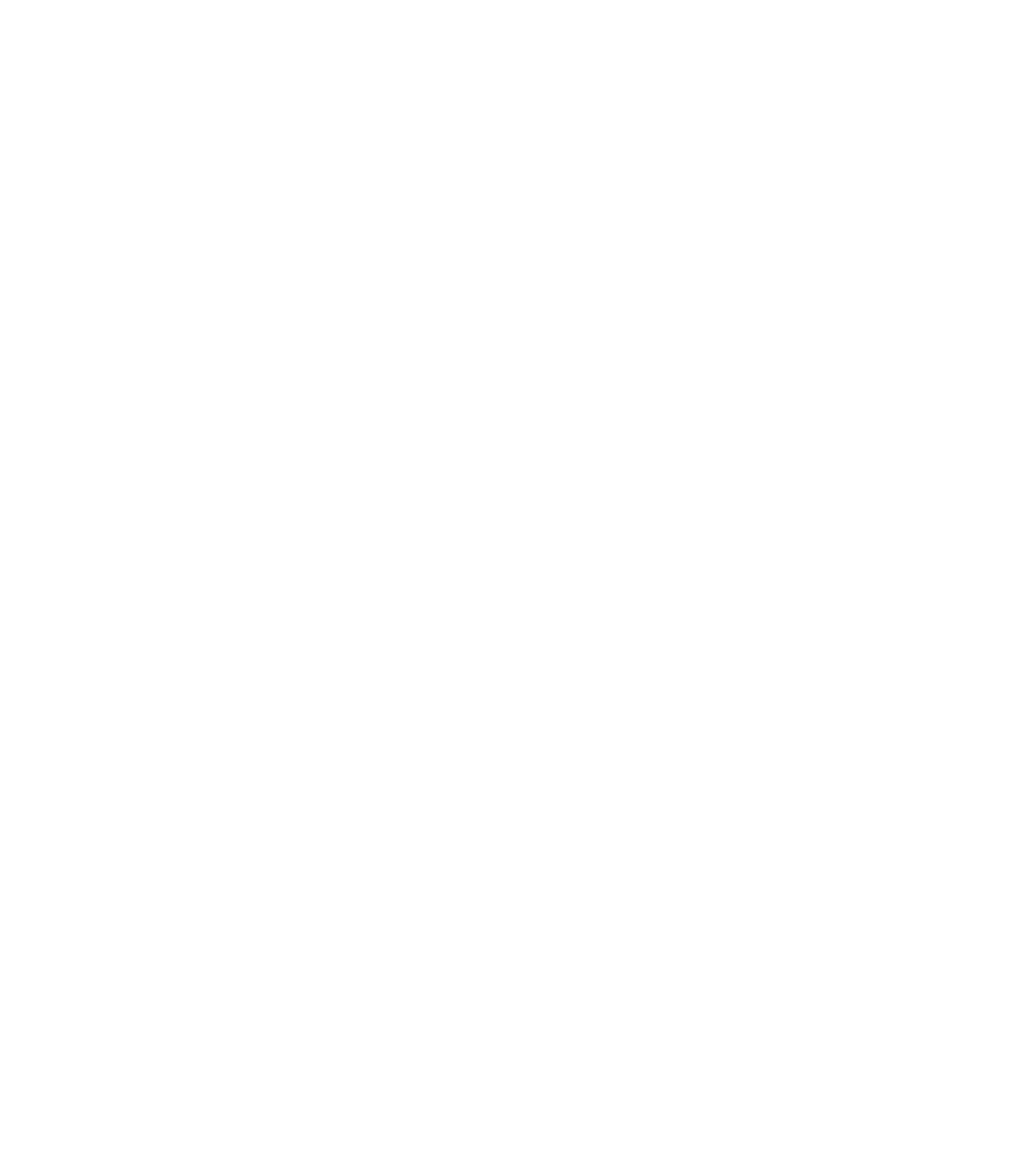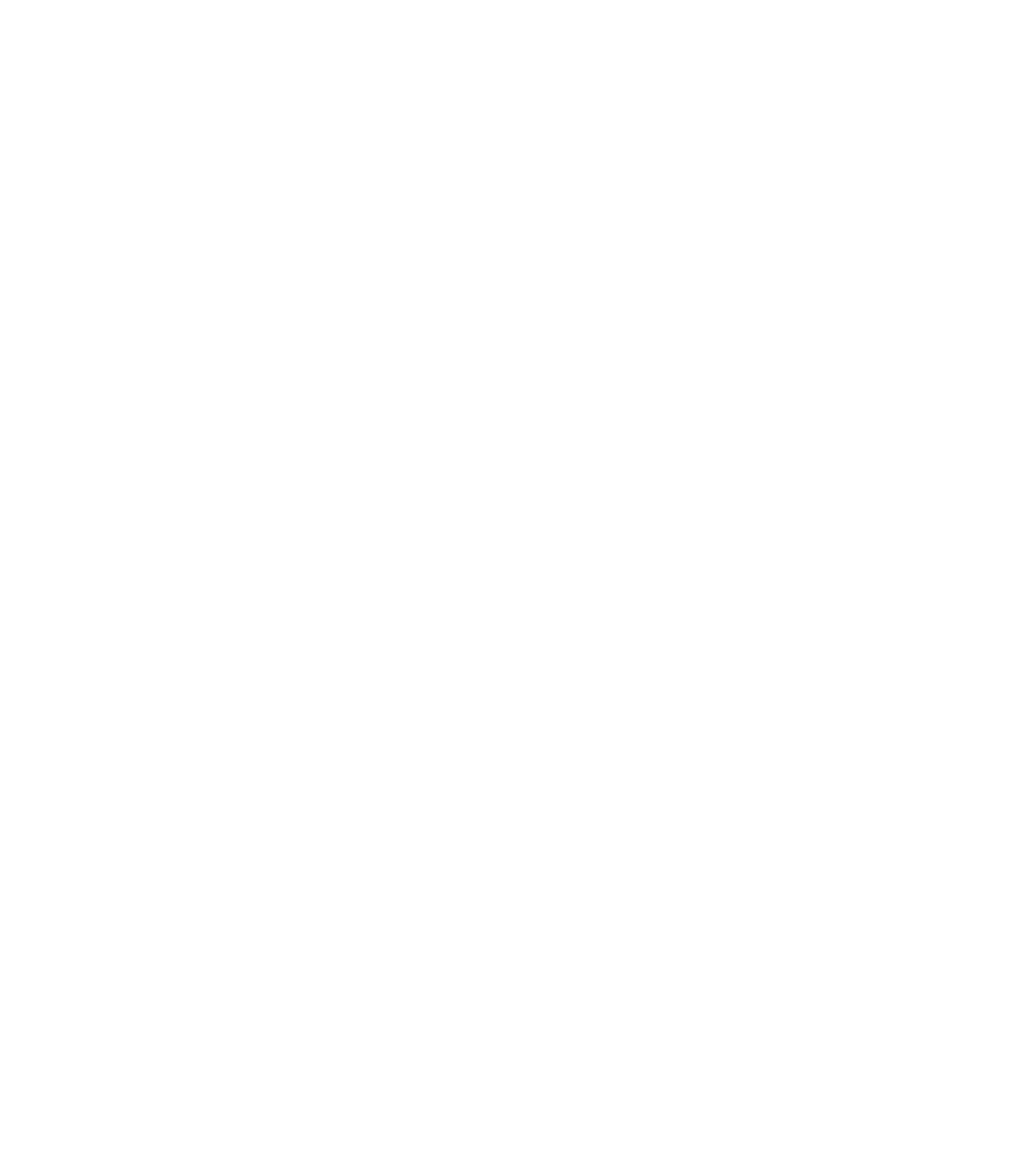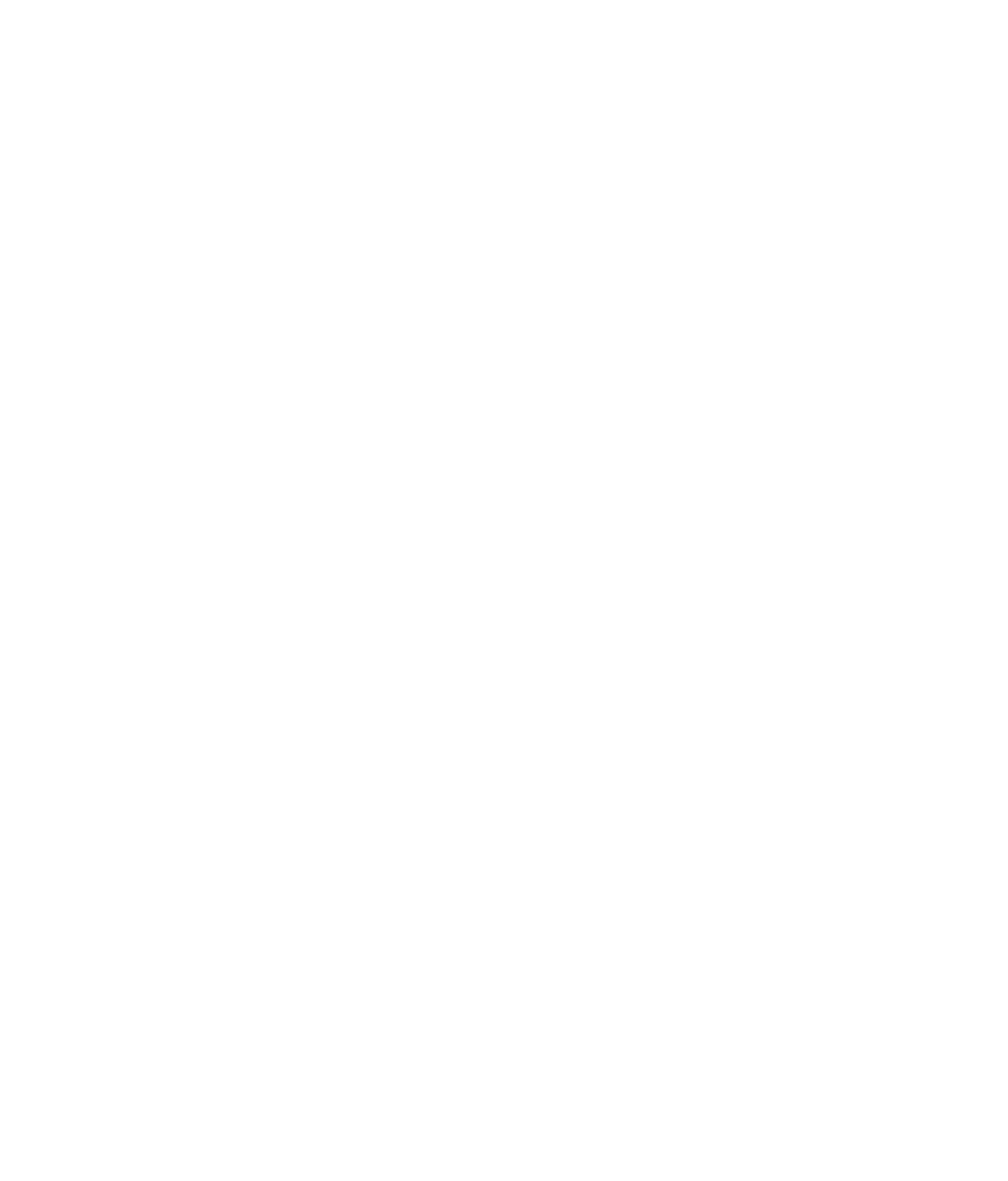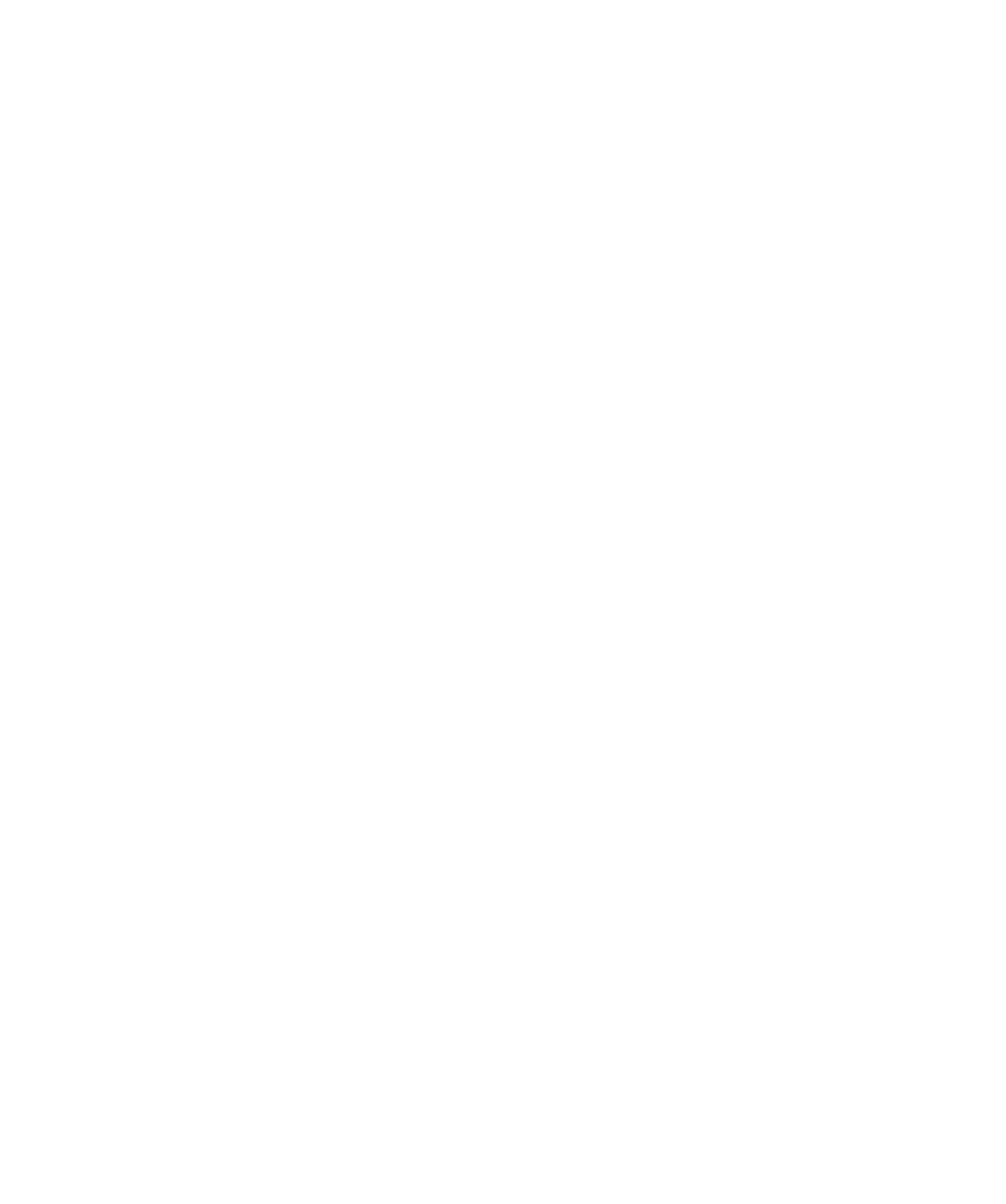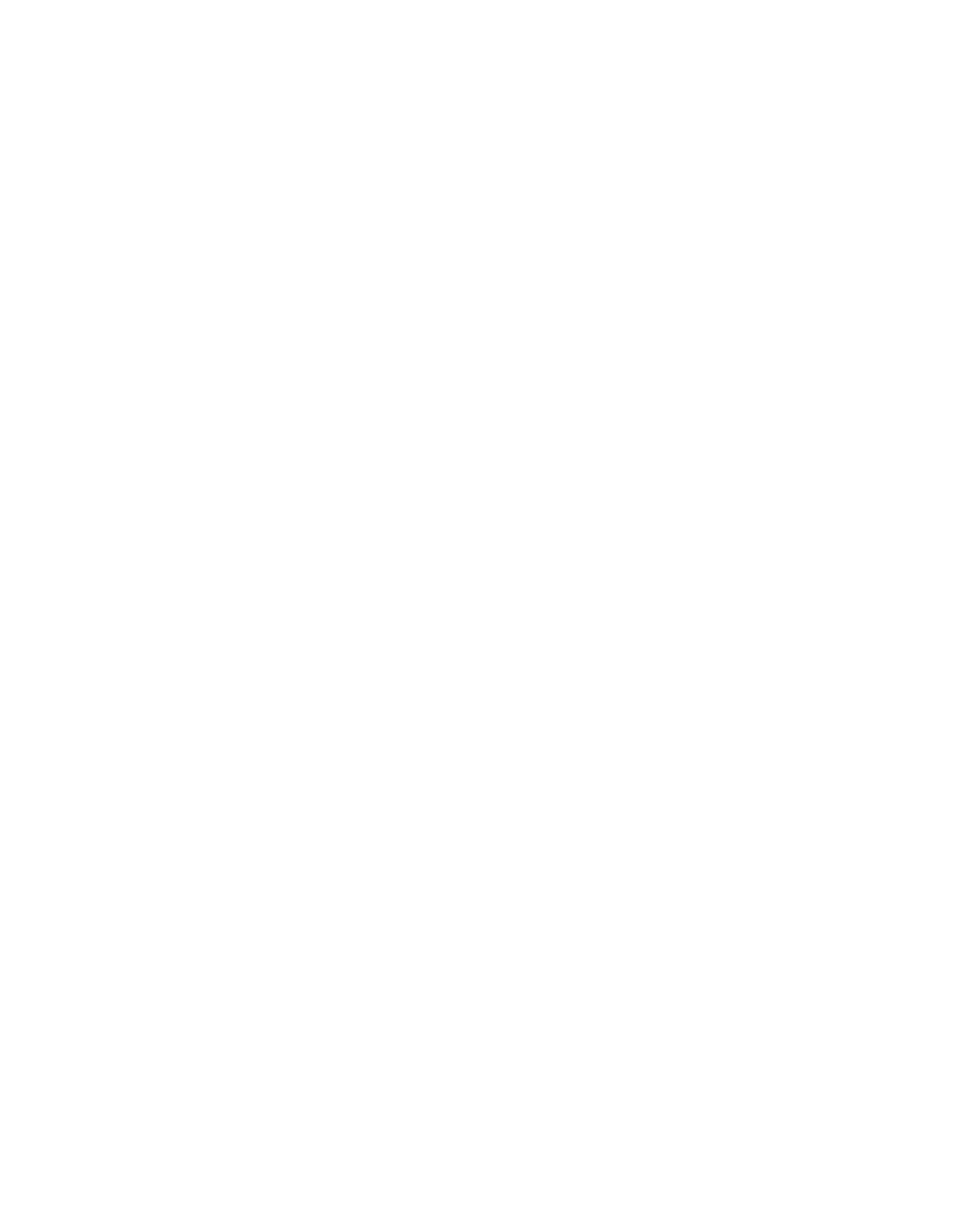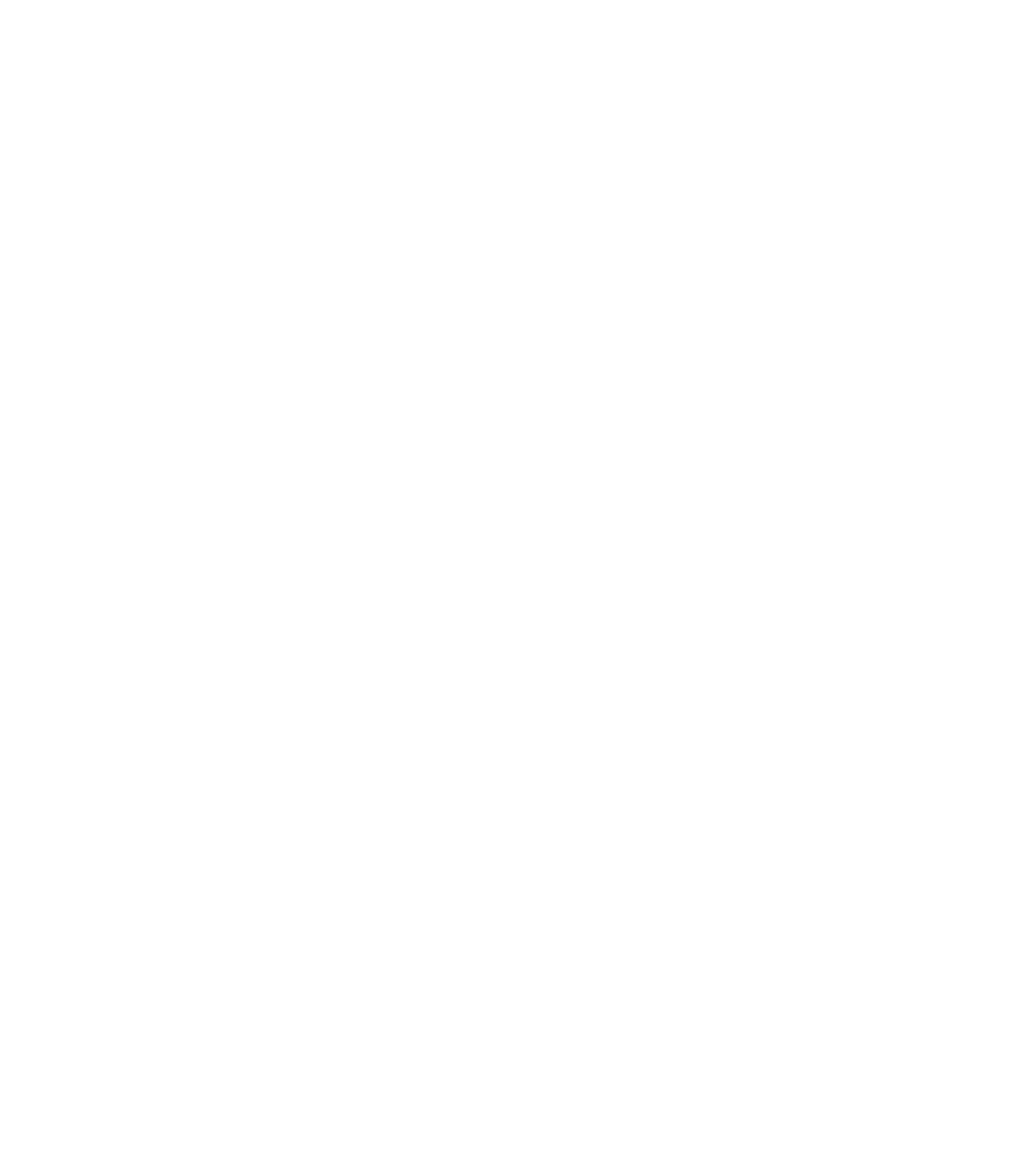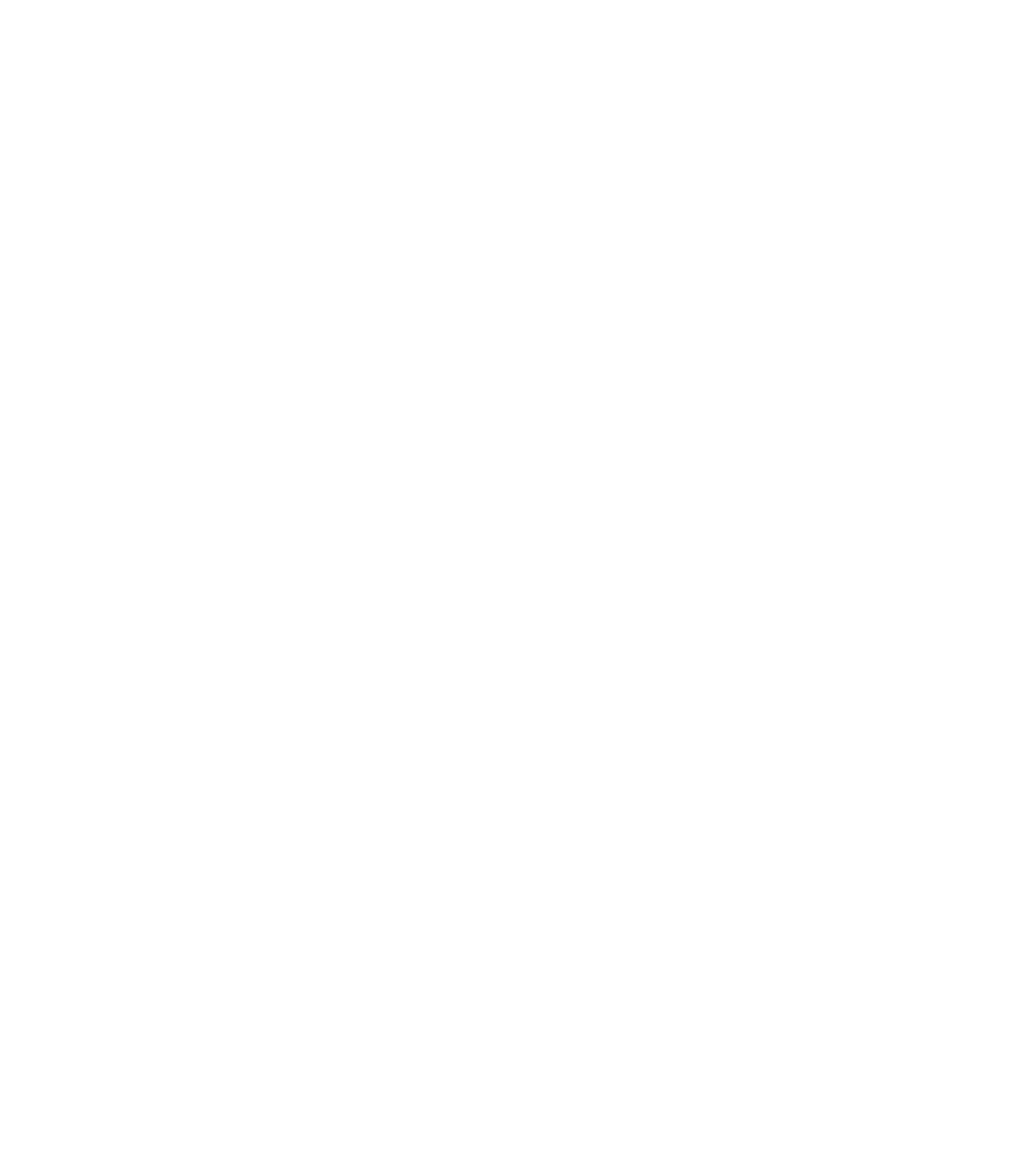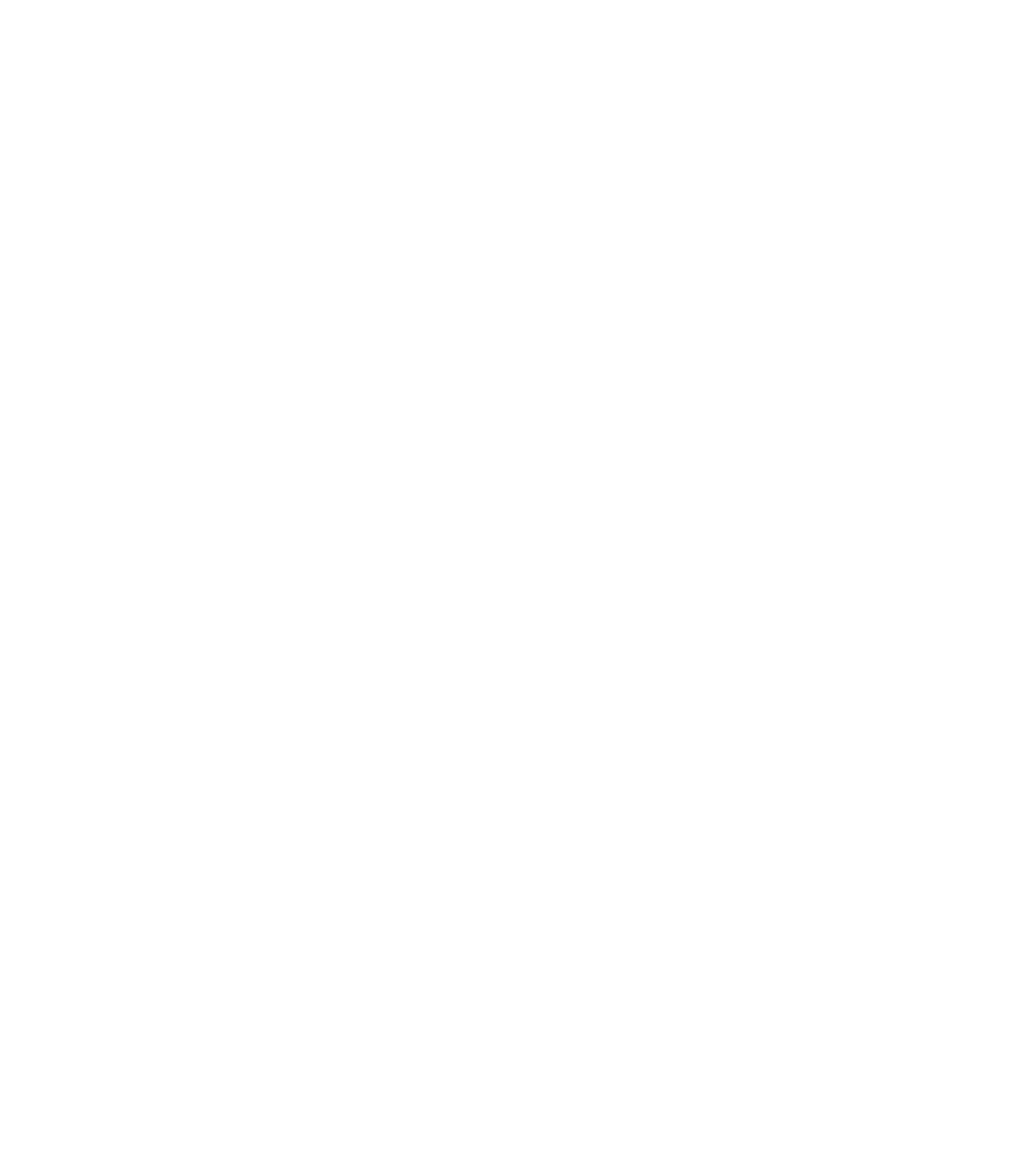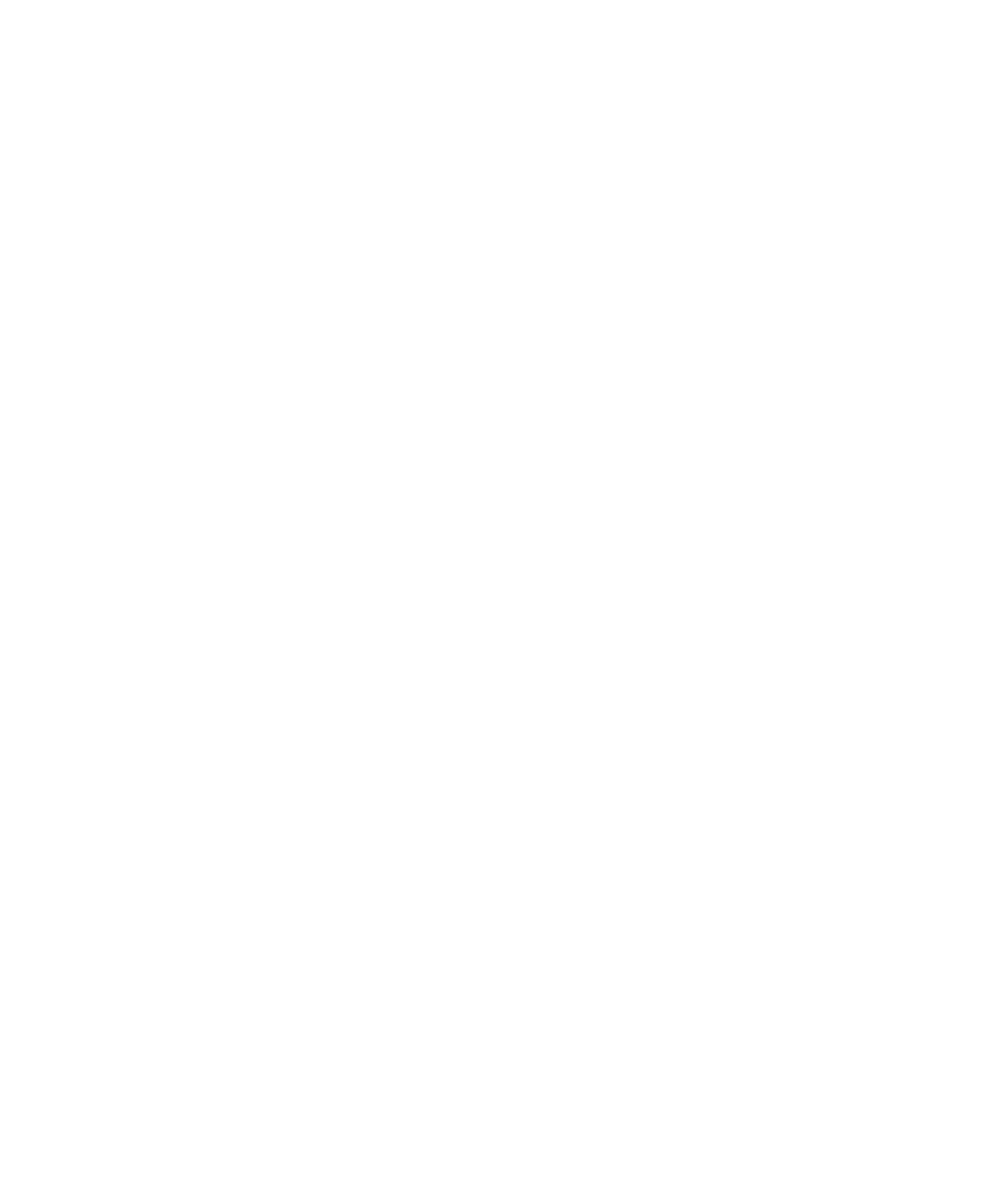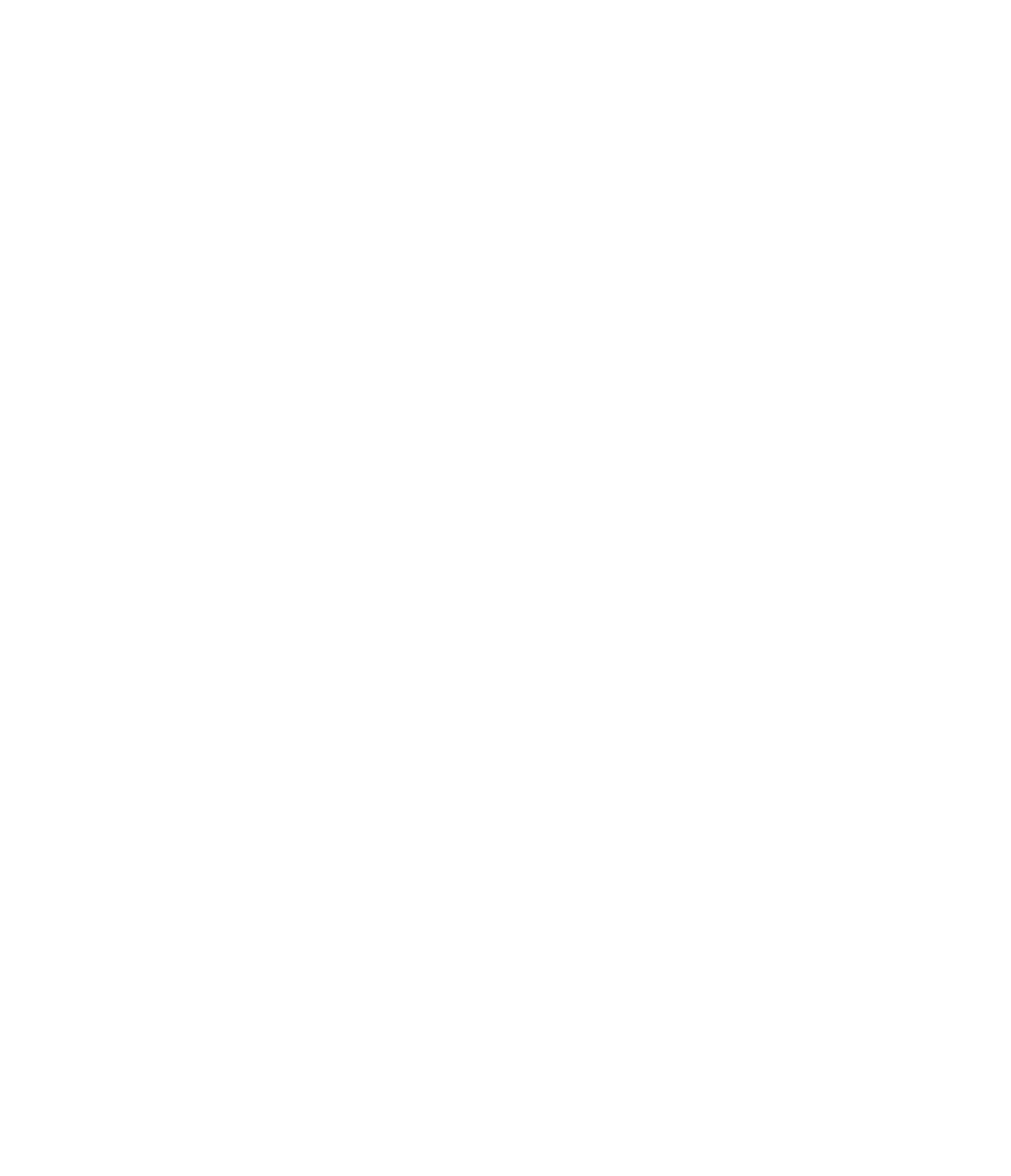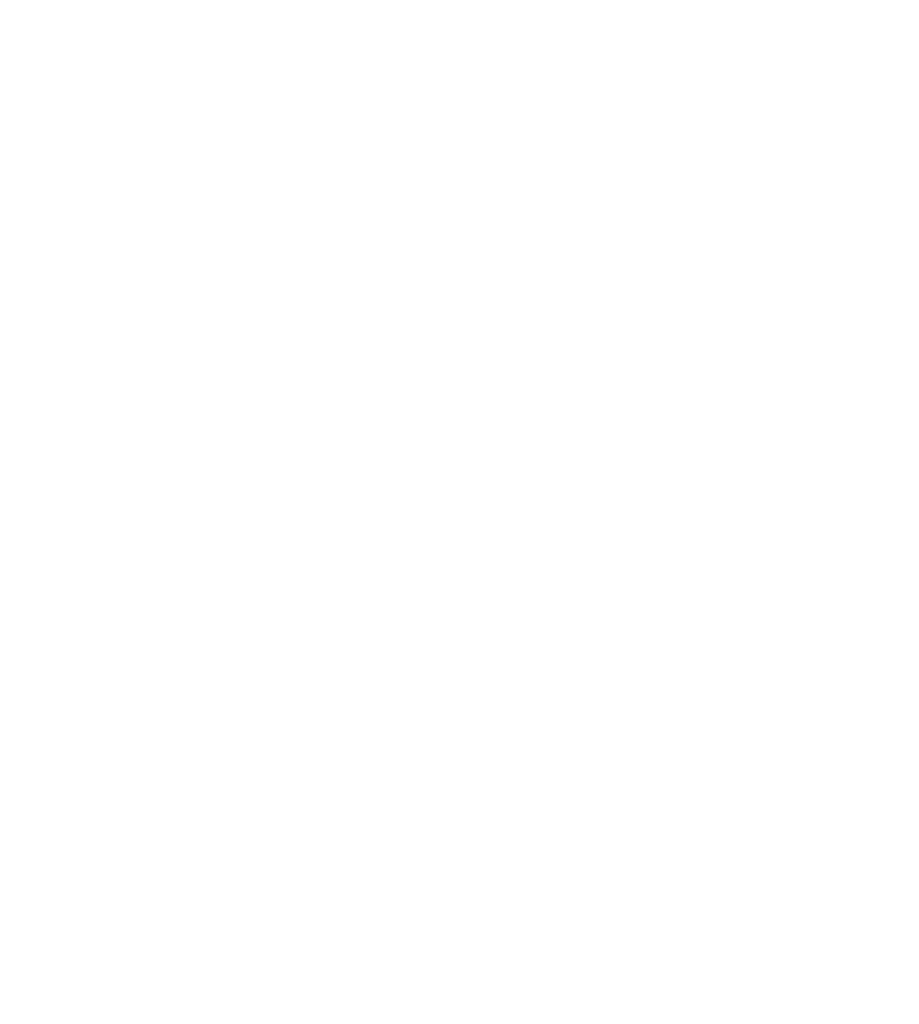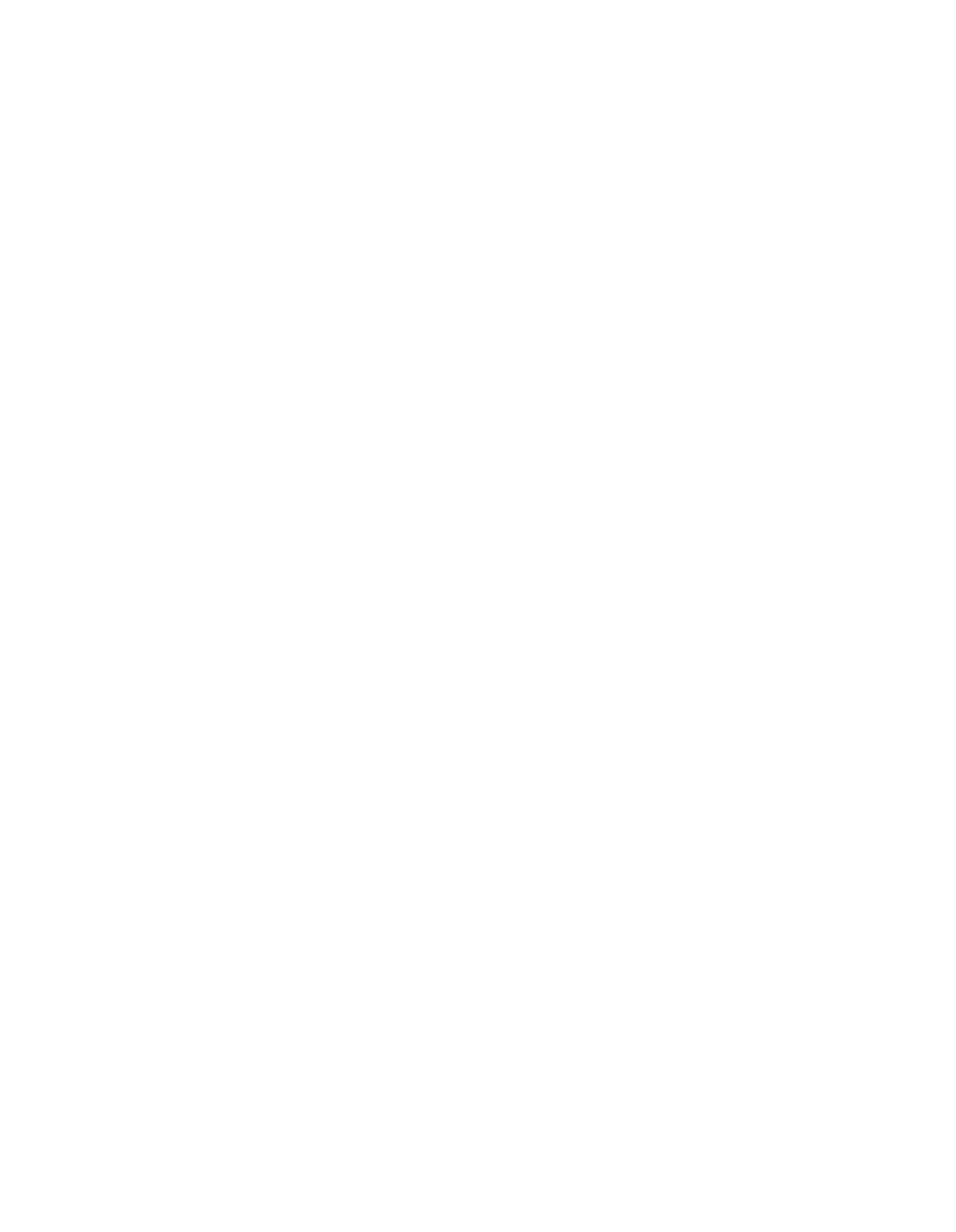Дельфтский сфинкс
Вып. 155
«Директ-Медиа»
Москва, 2023
Москва, 2023
Жизненный путь
В книге регистрации крещений церкви Ньиве Керк города Делфта 31 октября 1632 была сделана запись: «Младенец Янис, отец Рейнир Янсон, мать Дангнум Балтазарс…» Таково первое свидетельство о рождении Яна Вермеера Делфтского — в будущем прославленного на века художника.
Вермеер родился в зажиточной семье портного — об их достатке свидетельствует тот факт, что дом родителей Яна находился на главной площади Делфта. О детстве и юности живописца ничего не известно. Первые данные о нем (помимо отметки о крещении) относятся ко времени, когда Ян был уже в сознательном возрасте, — это запись о венчании Вермеера с Катариной Болнес, которая датируется 21 апреля 1653.
Еще до свадьбы будущая теща художника, Мария Тинс, противилась готовившемуся событию, вероятно, из-за того, что она сама и ее дочь являлись католичками, а Вермеер — протестантом. Как бы то ни было, брак был заключен. Свадьбу справляли на окраине Делфта, в месте, где обосновалась небольшая католическая община. О том, принял ли в итоге Ян Вермеер католичество, остались противоречивые сведения, однако доподлинно известно, что детей он для удовольствия их бабушки крестил и растил в ее вере.
Еще до свадьбы будущая теща художника, Мария Тинс, противилась готовившемуся событию, вероятно, из-за того, что она сама и ее дочь являлись католичками, а Вермеер — протестантом. Как бы то ни было, брак был заключен. Свадьбу справляли на окраине Делфта, в месте, где обосновалась небольшая католическая община. О том, принял ли в итоге Ян Вермеер католичество, остались противоречивые сведения, однако доподлинно известно, что детей он для удовольствия их бабушки крестил и растил в ее вере.
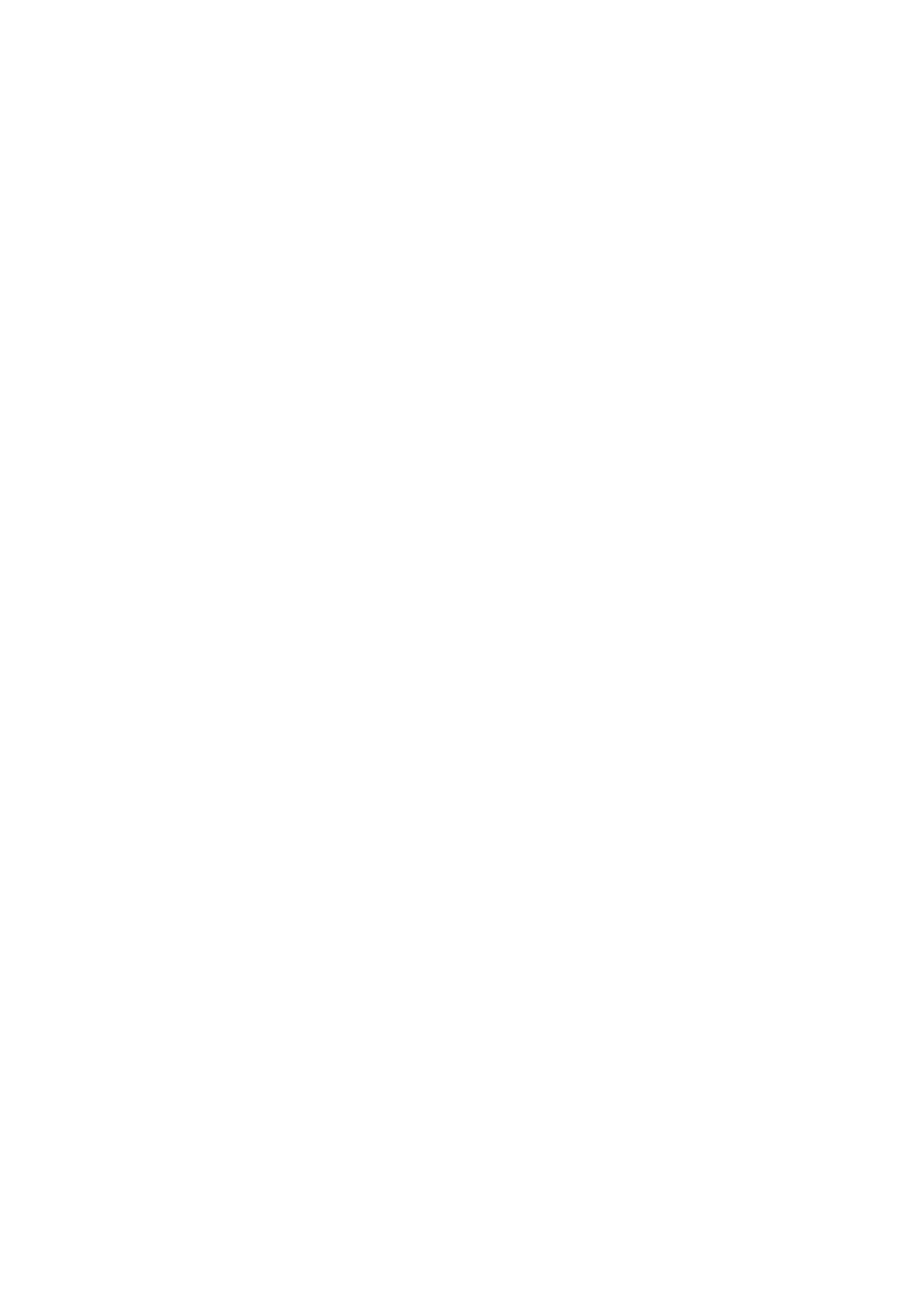
Диана со спутницами. Фрагмент
Через некоторое время новобрачные поселились в доме тещи. Шаткость финансового положения зятя смущала богатую гражданку Делфта еще до того, как он женился на ее дочери. И опасения Марии Тинс вполне оправдались: молодые постоянно прибегали к ее материальной поддержке. Сам Вермеер в то время перепродавал картины, и это увлечение, видимо, поглощало его настолько, что всерьез он не занимался больше никаким другим делом, кроме одного — живописи. По крайней мере, так он говорил о себе сам.
До настоящего времени с точностью не установлено, кто являлся учителем Вермеера, но, несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что большое влияние на становление его творчества оказал голландский художник Карел Фабрициус, также живший и работавший в Делфте. Вермеер даже имел в своей коллекции три его работы. Наставником же Фабрициуса являлся Рембрандт Харменс ван Рейн, с именем которого связана целая эпоха в искусстве. Кроме того, есть основания полагать, что с живописцами, чья манера близка его собственной, мастер был знаком лично. Речь идет о Яне Стене (он мог видеться с Вермеером, когда навещал отца-пивовара в Делфте), Питере де Хохе, жившем в Делфте с 1684, а также о Герарде Терборхе, с которым Вермеер заключил совместный договор в 1653 (на нем имеются подписи их обоих). Также о жизни живописца известно, что в 1662—1671 он значился деканом гильдии делфтских художников.
До настоящего времени с точностью не установлено, кто являлся учителем Вермеера, но, несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что большое влияние на становление его творчества оказал голландский художник Карел Фабрициус, также живший и работавший в Делфте. Вермеер даже имел в своей коллекции три его работы. Наставником же Фабрициуса являлся Рембрандт Харменс ван Рейн, с именем которого связана целая эпоха в искусстве. Кроме того, есть основания полагать, что с живописцами, чья манера близка его собственной, мастер был знаком лично. Речь идет о Яне Стене (он мог видеться с Вермеером, когда навещал отца-пивовара в Делфте), Питере де Хохе, жившем в Делфте с 1684, а также о Герарде Терборхе, с которым Вермеер заключил совместный договор в 1653 (на нем имеются подписи их обоих). Также о жизни живописца известно, что в 1662—1671 он значился деканом гильдии делфтских художников.
Последняя запись, относящаяся к имени гения, была сделана во второй из двух самых больших церквей города Делфта, в котором прошла вся его жизнь, — Ауде Керк. Она свидетельствует, что великий голландец похоронен здесь же 15 декабря 1675.
Катарина пережила своего мужа и после его смерти пользовалась средствами от продажи оставшихся от него немногочисленных картин.
Чтобы лучше понимать суть творчества Вермеера, необходимо знать, что жизнь художника и жизнь его соотечественников, привыкших нелегким трудом добывать свой хлеб, уважать себя и не быть безучастными к происходящему в мире, состояла из простых, но важных моментов, лишенных пафосного звучания, будь то долг перед отчизной или забота о доме.
Катарина пережила своего мужа и после его смерти пользовалась средствами от продажи оставшихся от него немногочисленных картин.
Чтобы лучше понимать суть творчества Вермеера, необходимо знать, что жизнь художника и жизнь его соотечественников, привыкших нелегким трудом добывать свой хлеб, уважать себя и не быть безучастными к происходящему в мире, состояла из простых, но важных моментов, лишенных пафосного звучания, будь то долг перед отчизной или забота о доме.
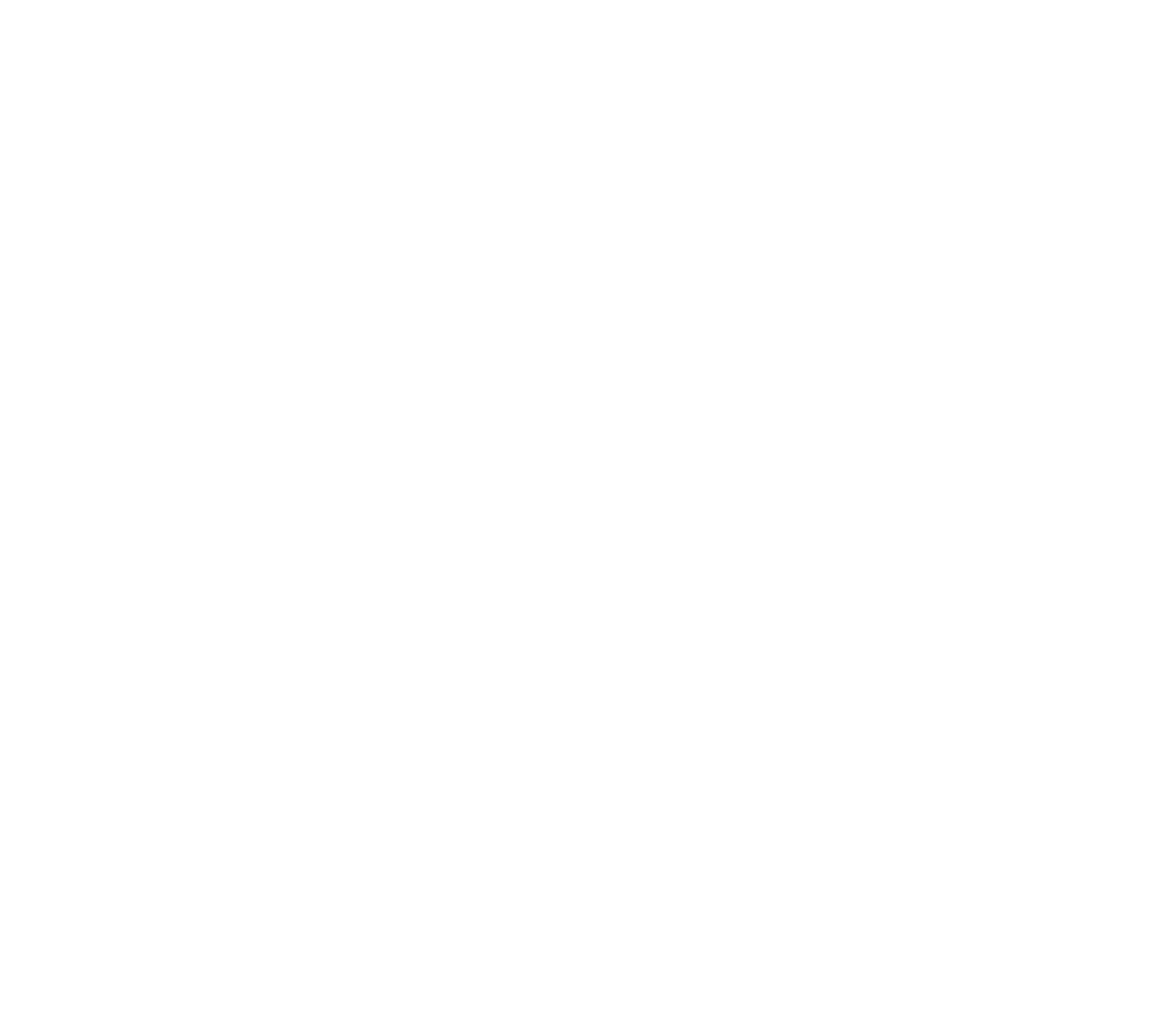
Диана со спутницами. Фрагмент
Дух времени
В XVII веке роль искусства в жизни европейского человека изменилась, появились и новые темы. В Голландии того времени стали другими глазами смотреть на мир — в сердцах людей появилось место для чуткого восприятия окружающей природы. Они также стали идеализировать дом как тихое пристанище и особенно благоговеть перед предметами, связанными с бытом. Именно поэтому в Голландии оказались так популярны жанры пейзажа, среди которых и морской, реалистическое изображение интерьера и натюрморт.
Мир в XVII веке переворачивало от взрыва научных и географических открытий. Наука все больше привлекала к себе интерес европейцев, из-за чего они все дальше отходили от религиозно-христианского понимания бытия, все меньше воспринимали Вселенную как чудо, созданное Богом для человека, познавать которое нужно, удивляясь величию Творца. Тайное больше не будоражило ум, а естественным образом занимало место в сердце как принадлежащее Господу. Теперь мир стал человеку домом, а его пугающие, неизведанные и непонятные явления помогали раскрывать развивающиеся физика и география. И хотя религия по-прежнему играла свою историческую роль, но все чаще становилась орудием политических интриг, а потому оказывалась все дальше от простых людских сердец.
Мир в XVII веке переворачивало от взрыва научных и географических открытий. Наука все больше привлекала к себе интерес европейцев, из-за чего они все дальше отходили от религиозно-христианского понимания бытия, все меньше воспринимали Вселенную как чудо, созданное Богом для человека, познавать которое нужно, удивляясь величию Творца. Тайное больше не будоражило ум, а естественным образом занимало место в сердце как принадлежащее Господу. Теперь мир стал человеку домом, а его пугающие, неизведанные и непонятные явления помогали раскрывать развивающиеся физика и география. И хотя религия по-прежнему играла свою историческую роль, но все чаще становилась орудием политических интриг, а потому оказывалась все дальше от простых людских сердец.
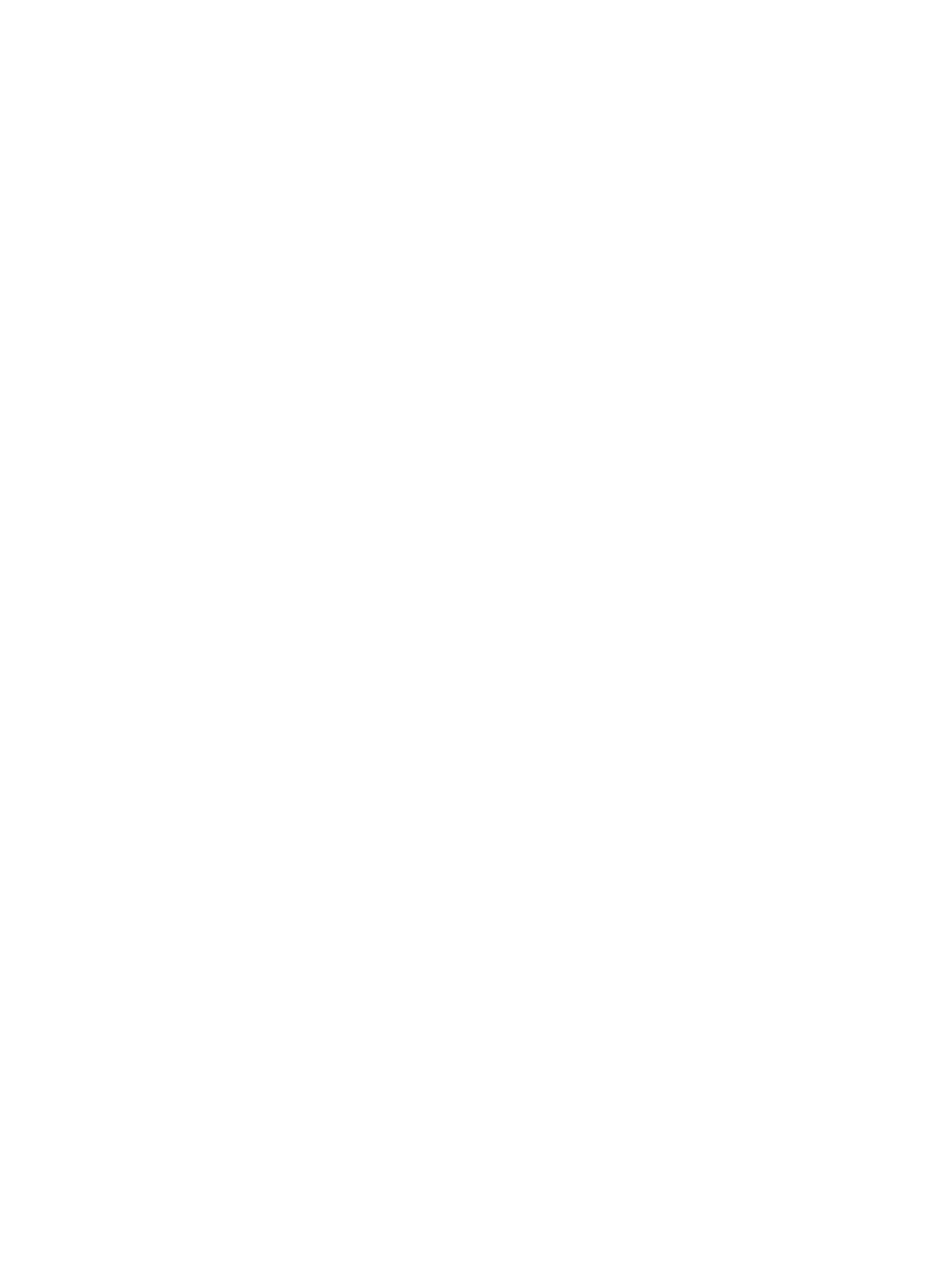
Христос в доме Марии и Марфы. Фрагмент
Художников всех направлений, в том числе и Вермеера, волновало воздействие света на предметы. Большое значение для воплощения небывалых доселе задач в изобразительном искусстве получила попытка передачи тона и фактуры предметов при разном характере освещенности: учитывалось воздействие на них и окружающее их пространство солнечного, лунного или искусственного (от свечи) света. Зрительное ощущение материальности окружающего мира, появившееся в картинах голландских живописцев того времени, захватывающе откровенно.
Яна Вермеера называют мастером света. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящуюся чистыми яркими красками драгоценность.
В двух ранних картинах мастера на библейскую и мифологическую темы — «Христос в доме Марии и Марфы» (до 1654−1655, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург) и «Диана со спутницами» (1655−1656, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага) — вымышленный интерьер и пейзаж, расположение фигур выдают следование итальянской ренессансной традиции, а вот свет в изображении распределен, очевидно, в традиции караваджистов.
Яна Вермеера называют мастером света. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящуюся чистыми яркими красками драгоценность.
В двух ранних картинах мастера на библейскую и мифологическую темы — «Христос в доме Марии и Марфы» (до 1654−1655, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург) и «Диана со спутницами» (1655−1656, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага) — вымышленный интерьер и пейзаж, расположение фигур выдают следование итальянской ренессансной традиции, а вот свет в изображении распределен, очевидно, в традиции караваджистов.
Так в русле привычных тем уже появлялись признаки иного понимания роли освещения в изображении. Для полотен караваджизма характерен яркий направленный свет трепетной свечи, отбрасывающий контрастные тени. Пример тому — произведение «Христос в доме Марии и Марфы», в котором представлена известная евангельская история о том, как Христос, ставя погруженной в житейские заботы Марфе в пример Марию, внимающую Его словам о Божественных истинах, сказал: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра» (Евангелие от Луки, 10: 41−42). Не составляет особого труда понять, кто есть кто на полотне: Христос смотрит на Марфу, жестом указывая на Марию. Эта работа с библейским сюжетом сильно выбивается из основного ряда произведений Вермеера не только содержанием. Резкие развороты фигур, теплые жгучие рефлексы в тенях от белых тканей на коже рук и, самое главное, свет, выхватывающий из темноты детали, — все свидетельствует в пользу усвоения живописцем уроков караваджизма. О его авторстве говорит подпись на скамеечке, на которой сидит Мария. Существует версия, гипотетически объясняющая выбор нехарактерной для художника темы, — он писал картину на заказ.
Помимо отмеченной выше особенности (учет освещения) в голландской живописи XVII века была еще одна, весьма важная: изображение бытовых сценок из жизни простых людей.
Помимо отмеченной выше особенности (учет освещения) в голландской живописи XVII века была еще одна, весьма важная: изображение бытовых сценок из жизни простых людей.
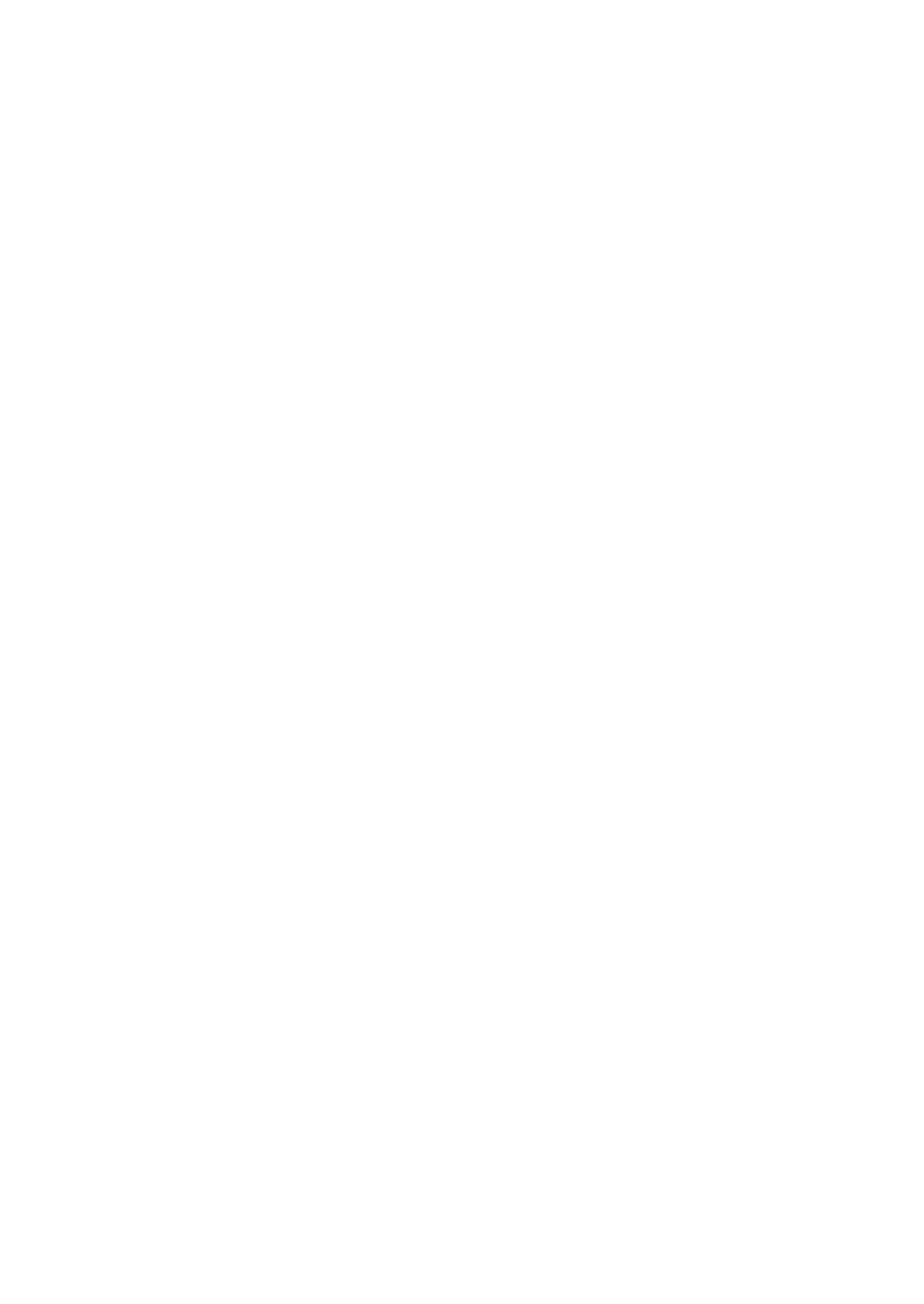
Христос в доме Марии и Марфы. Фрагмент
И если на вопрос, какому мифологическому, библейскому либо историческому событию посвящена картина или итальянская фреска эпохи Возрождения или кто представлен на голландском портрете XVI века, почти всегда есть ответ, то о бытовой живописи Голландии XVII века так не всегда можно сказать. Кто музицирует, читает письма или поднимает чашу в одиночных и групповых, похожих на портреты, работах голландцев? Для чего создавались и какое место в жизни людей занимали картины, показывающие повседневные дела крестьян и горожан? На полотнах Вермеера интерьеры украшает живопись итальянизирующего направления с мифологическими и библейскими сюжетами, а также пейзаж. Но почему изображенные холсты никогда не бывают похожи на реальные произведения Вермеера? На эти вопросы в большинстве случаев не существует ответа до сих пор. Даже непритязательные бытовые сценки не оставляют ощущения уверенности в их самостоятельной значимости из-за того, что голландцы того времени, и в их числе художники и знатоки-любители живописи, воспринимали искусство особым образом, непременно учитывая аллегорическое значение даже непримечательных деталей.
Наследие традиций
Начиная с XV века голландская реалистическая живопись постепенно шла к высшей точке своего развития — золотому веку. Эпохе расцвета предшествовал период становления, и свою роль сыграло национальное искусство предыдущих столетий. В середине XV века в композициях, где, кстати, всегда присутствовали люди — такие сценки потенциально предвосхищали появление бытового жанра, — одновременно произошло и частичное обособление пейзажа. Особенно это коснулось изображений панорамных ландшафтов с их масштабом, настолько широких, что представленные на них человеческие фигуры выглядят несоизмеримо маленькими. Первым европейским художником, в творчестве которого пейзаж получил самостоятельное звучание, был Иоахим Патинир (в XV веке). Его начинание поддержал Питер Брейгель Старший (в XVI столетии). Последний на некоторых своих картинах изображал с высокой точки зрения катающихся на коньках людей. Появление сюжетов с конькобежцами с явно сниженной ролью аллегорического прочтения, как, например, в полотнах Хендрика ван Аверкампа, работавшего в начале XVII века, предвещало грядущее окончательное разделение панорамного пейзажа и бытового жанра. Таким образом, наряду с бытовым жанром в пейзажах с конькобежцами лежат истоки ландшафтной живописи эпохи золотого века Голландии.
Переход от иносказаний в искусстве к изображению реальности проявился не только в появлении пейзажа как отдельного жанра, но и в отделении интерьерных жанровых сцен, отмеченных чертами маньеризма (стиль XVI — первой трети XVII века), в которых удлиненные фигуры людей одеты по моде XVI века. Именно тогда помещение как самостоятельная среда для героев заинтересовало голландских художников.
Переход от иносказаний в искусстве к изображению реальности проявился не только в появлении пейзажа как отдельного жанра, но и в отделении интерьерных жанровых сцен, отмеченных чертами маньеризма (стиль XVI — первой трети XVII века), в которых удлиненные фигуры людей одеты по моде XVI века. Именно тогда помещение как самостоятельная среда для героев заинтересовало голландских художников.
Пытаясь его передать, живописцы обычно изображали только одну стену комнаты, напоминающую чем-то театральный занавес. Но из-за непонимания художниками-маньеристами, в отличие, например, от караваджистов, живописного значения светотеневой игры все персонажи располагались именно на переднем плане, а пространство за ними не выделялось. Таковы картины Виллема Бейтевега.
В начале XVII века находки так называемых утрехтских караваджистов, которые использовал Вермеер в двух картинах на библейскую и мифологическую темы на раннем этапе своего творчества, о чем уже говорилось выше, сформировали и другой тип сцен в помещении. Несколько мастеров из голландского города Утрехта — приверженцев новаторских идей Микеланджело да Караваджо, проживших некоторое время в Италии, — перенесли его творческий метод на голландскую почву. Они в отличие от маньеристов оставляли вокруг фигур много пустого пространства, не изображая деталей интерьера вообще.
В начале XVII века находки так называемых утрехтских караваджистов, которые использовал Вермеер в двух картинах на библейскую и мифологическую темы на раннем этапе своего творчества, о чем уже говорилось выше, сформировали и другой тип сцен в помещении. Несколько мастеров из голландского города Утрехта — приверженцев новаторских идей Микеланджело да Караваджо, проживших некоторое время в Италии, — перенесли его творческий метод на голландскую почву. Они в отличие от маньеристов оставляли вокруг фигур много пустого пространства, не изображая деталей интерьера вообще.
Достижения в трактовке света, эмоциональное взаимодействие героев произведений Хендрика Тербрюггена, Герарда ван Гонтгорста и Дирка Бабюрена во многом способствовали развитию всех жанров Голландии в эпоху золотого века, несмотря на то что после их смерти утрехтский караваджизм не нашел преемников и, таким образом, исчерпал себя в 1620-е.
Так случилось, что художники, в живописи которых большое внимание уделяется обстановке, в большинстве своем жили в Делфте. Есть неопровержимые свидетельства знакомства и общения голландских живописцев, чей метод и стиль имели общие признаки.
Однако частые почти полные совпадения в средствах поиска образной выразительности у разных мастеров не исключали проявления индивидуальных творческих особенностей. Так, если де Хоха во многом гораздо больше заботят элементы, организующие пространственную конструкцию, и типичные сценки повседневной жизни, то Вермеер акцентирует внимание на психологическом состоянии персонажей в минуту их раздумий, отдыха.
Так случилось, что художники, в живописи которых большое внимание уделяется обстановке, в большинстве своем жили в Делфте. Есть неопровержимые свидетельства знакомства и общения голландских живописцев, чей метод и стиль имели общие признаки.
Однако частые почти полные совпадения в средствах поиска образной выразительности у разных мастеров не исключали проявления индивидуальных творческих особенностей. Так, если де Хоха во многом гораздо больше заботят элементы, организующие пространственную конструкцию, и типичные сценки повседневной жизни, то Вермеер акцентирует внимание на психологическом состоянии персонажей в минуту их раздумий, отдыха.
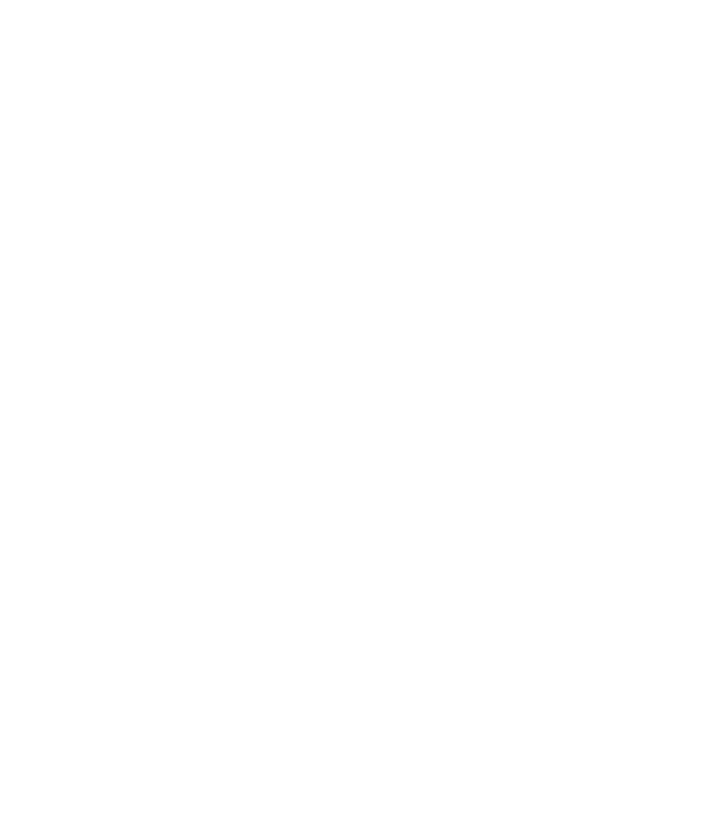
У сводни. Фрагмент
Художественная манера Вермеера
Тщательное изучение живописной фактуры полотен Вермеера ставит перед вдохновленным исследователем множество загадок. Дело в том, что в натюрмортах, часто включаемых им в интерьер, применялся способ наложения мазка, не свойственный ни одному из его современников. Для чего художник писал мелкими точечными ударами кисти — настолько мелкими, что их можно различить только находясь очень близко к картине? Практически не играя никакой заметной роли на расстоянии, манера Вермеера никак не объяснима с художественной точки зрения. Например, так называемые пуантилисты в конце XIX века, используя такой же прием, только более откровенно, стремились добиться зрительного оптического смешения точек открытых цветов в оттенки. Но точки Вермеера слишком малы, чтобы зритель мог озадачиться такой постановкой проблемы. Они сливаются в единую массу на расстоянии, необходимом для обзора картины так же, как сливаются буквы, если расположить текст слишком далеко от глаз. На сегодняшний день известно около тридцати (точные данные расходятся) полотен Вермеера, атрибутировать которые помогла его особенная манера. Вполне возможно, художник опасался подделок и надеялся, что, даже используя его сюжеты, воспроизвести метод не сможет никто.
Если мастер действительно боялся, что кто-нибудь будет прикрываться его именем в стремлении обогатиться, он не ошибся — история знает множество примеров, когда картины на близкие ему темы писали другие люди, выдавая свои произведения за шедевры гения.
Существует и иная версия на этот счет. Живописец был знаком с известным ученым Антони ван Левенгуком. Открытия Левенгука в области молекулярного строения вещества нашли выражение в идее «глобул» — так натуралист называл точки, из которых, по его мнению, состоит материя. Может быть, Вермеер поверил в то, что, воссоздавая точечную структуру, он творит живописный мир так же, как Бог творит материальный? Эта гипотеза не лишена смысла, ведь известно, какое большое значение имела для голландских мастеров XVII века сама идея изображения мира, близкого к реальности. Однако кажется неправдоподобным, что художник такого дарования, как Вермеер, использовал точечный метод только лишь вследствие слепой веры своему другу.
Существует и иная версия на этот счет. Живописец был знаком с известным ученым Антони ван Левенгуком. Открытия Левенгука в области молекулярного строения вещества нашли выражение в идее «глобул» — так натуралист называл точки, из которых, по его мнению, состоит материя. Может быть, Вермеер поверил в то, что, воссоздавая точечную структуру, он творит живописный мир так же, как Бог творит материальный? Эта гипотеза не лишена смысла, ведь известно, какое большое значение имела для голландских мастеров XVII века сама идея изображения мира, близкого к реальности. Однако кажется неправдоподобным, что художник такого дарования, как Вермеер, использовал точечный метод только лишь вследствие слепой веры своему другу.

Спящая молодая женщина. Фрагмент
Несколько в большей степени заметны будущие живописные пристрастия мастера в мифологической композиции «Диана со спутницами» (1655−1656, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага) — работе из его раннего творчества. Сцена освещена любимым Вермеером мягким сумеречным светом, окутывающим прекрасных женщин с изящно собранными на затылке волосами. Уже здесь проявился интерес художника к изображению складок однотонных рукавов и юбок. Тема разгула, пьянства и веселья, характерная для фламандской живописи в духе Якоба Йорданса, находила отзвуки в северной Голландии у утрехтских караваджистов. Поэтому сюжет, который Вермеер избрал для картины «У сводни» (в некоторых источниках — «Сводня», 1656, Картинная галерея, Дрезден), не был нов в искусстве того времени. В пользу того, что мастер, безусловно, был знаком с этой темой, свидетельствует тот точно установленный факт, что в доме Марии Тинс, где жил художник с семьей, имелось полотно утрехтского караваджиста Дирка ван Бабюрена «Сводня» (1622, Музей изящных искусств, Бостон). Его, кстати, Вермеер изобразил в своих произведениях «Концерт» и «Девушка, сидящая за вирджиналом» (о них — ниже). Однако, например, в отличие от работы «Христос в доме Марии и Марфы» в картине «У сводни» общая художественная выразительность достигнута без использования караваджистского светотеневого приема, а с помощью более характерных для творчества Вермеера ярких локальных цветовых пятен.
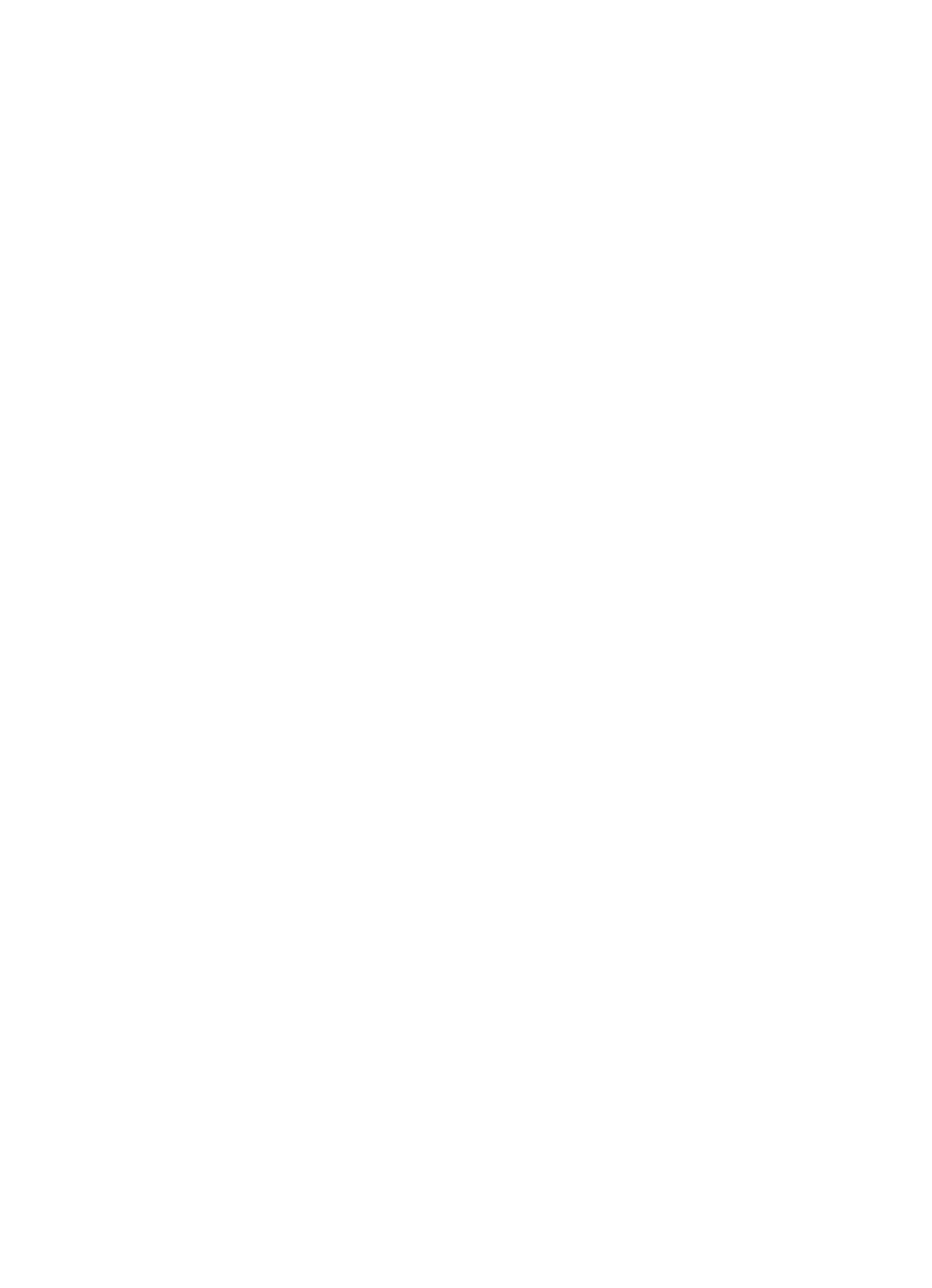
Спящая молодая женщина. Фрагмент
Хотя название произведения напрямую связано с изображаемым на нем действием, главная героиня скрыта тенью на втором плане. Женщинам с такой профессией и в жизни отводился второй план.
Чтобы четко понимать смысл происходящего, нужно разделять слова «сваха» и «сводня». Если первая сводила жениха с невестой, то вторая — кавалера с замужней дамой. В связи с тем что проводить свидания не всегда было удобно в установленном помещении, они могли происходить в разных местах, в том числе и в доме отсутствующего благоверного. Иногда преступные встречи устраивались не без ведома мужей, чьи жены таким образом приносили доход обедневшей семье. Возможно, именно такая супруга изображена на картине с протянутой рукой, на которую мужчина опускает монету. В левой руке у нее полный бокал — такой же обычно держат женщины, готовые на греховную связь, в других работах Вермеера.
Делфтские жанристы иногда зрительно увеличивали пространство небольших помещений в полотнах, изображая соседнюю комнату, видимую сквозь приоткрытую дверь. Питер де Хох, например, настолько преуспел в этом, что таким образом показывал целые анфилады и даже последний дверной проем с открывающейся за ним улицей.
Чтобы четко понимать смысл происходящего, нужно разделять слова «сваха» и «сводня». Если первая сводила жениха с невестой, то вторая — кавалера с замужней дамой. В связи с тем что проводить свидания не всегда было удобно в установленном помещении, они могли происходить в разных местах, в том числе и в доме отсутствующего благоверного. Иногда преступные встречи устраивались не без ведома мужей, чьи жены таким образом приносили доход обедневшей семье. Возможно, именно такая супруга изображена на картине с протянутой рукой, на которую мужчина опускает монету. В левой руке у нее полный бокал — такой же обычно держат женщины, готовые на греховную связь, в других работах Вермеера.
Делфтские жанристы иногда зрительно увеличивали пространство небольших помещений в полотнах, изображая соседнюю комнату, видимую сквозь приоткрытую дверь. Питер де Хох, например, настолько преуспел в этом, что таким образом показывал целые анфилады и даже последний дверной проем с открывающейся за ним улицей.
Прием расширения пространства включен в работу «Спящая молодая женщина» (около 1656−1657, Музей Метрополитен, Нью-Йорк). Из приоткрытой двери в полутемную комнату льется тусклый свет.
Доподлинно известно, что, создавая свои шедевры, Вермеер использовал камеру-обскуру — полностью закрытый ящик, из единственного отверстия которого открывается вид, похожий на вид из объектива фотоаппарата начала XX века. Через окошечко камеры-обскуры действительность проецировалась именно с такими бликами, какие видны на полотнах живописца и, в частности, на картине «Спящая молодая женщина».
Интересно, что натюрморт с фруктами на блюде, стоящем на складках тяжелого ковра, повторяется и на других холстах мастера. По сравнению со своими современниками Вермеер почти всегда более сдержан в оценках героев. Спящая женщина в голландском искусстве символизирует леность, но в данном случае нет никаких деталей, «подыгрывающих» такой трактовке, тем самым художник обращает на это внимание зрителя в меньшей степени, чем, к примеру, Николас Маас в его «Нерадивой служанке» (1655, Национальная галерея, Лондон), заснувшей перед рассыпаной на полу посудой.
Доподлинно известно, что, создавая свои шедевры, Вермеер использовал камеру-обскуру — полностью закрытый ящик, из единственного отверстия которого открывается вид, похожий на вид из объектива фотоаппарата начала XX века. Через окошечко камеры-обскуры действительность проецировалась именно с такими бликами, какие видны на полотнах живописца и, в частности, на картине «Спящая молодая женщина».
Интересно, что натюрморт с фруктами на блюде, стоящем на складках тяжелого ковра, повторяется и на других холстах мастера. По сравнению со своими современниками Вермеер почти всегда более сдержан в оценках героев. Спящая женщина в голландском искусстве символизирует леность, но в данном случае нет никаких деталей, «подыгрывающих» такой трактовке, тем самым художник обращает на это внимание зрителя в меньшей степени, чем, к примеру, Николас Маас в его «Нерадивой служанке» (1655, Национальная галерея, Лондон), заснувшей перед рассыпаной на полу посудой.
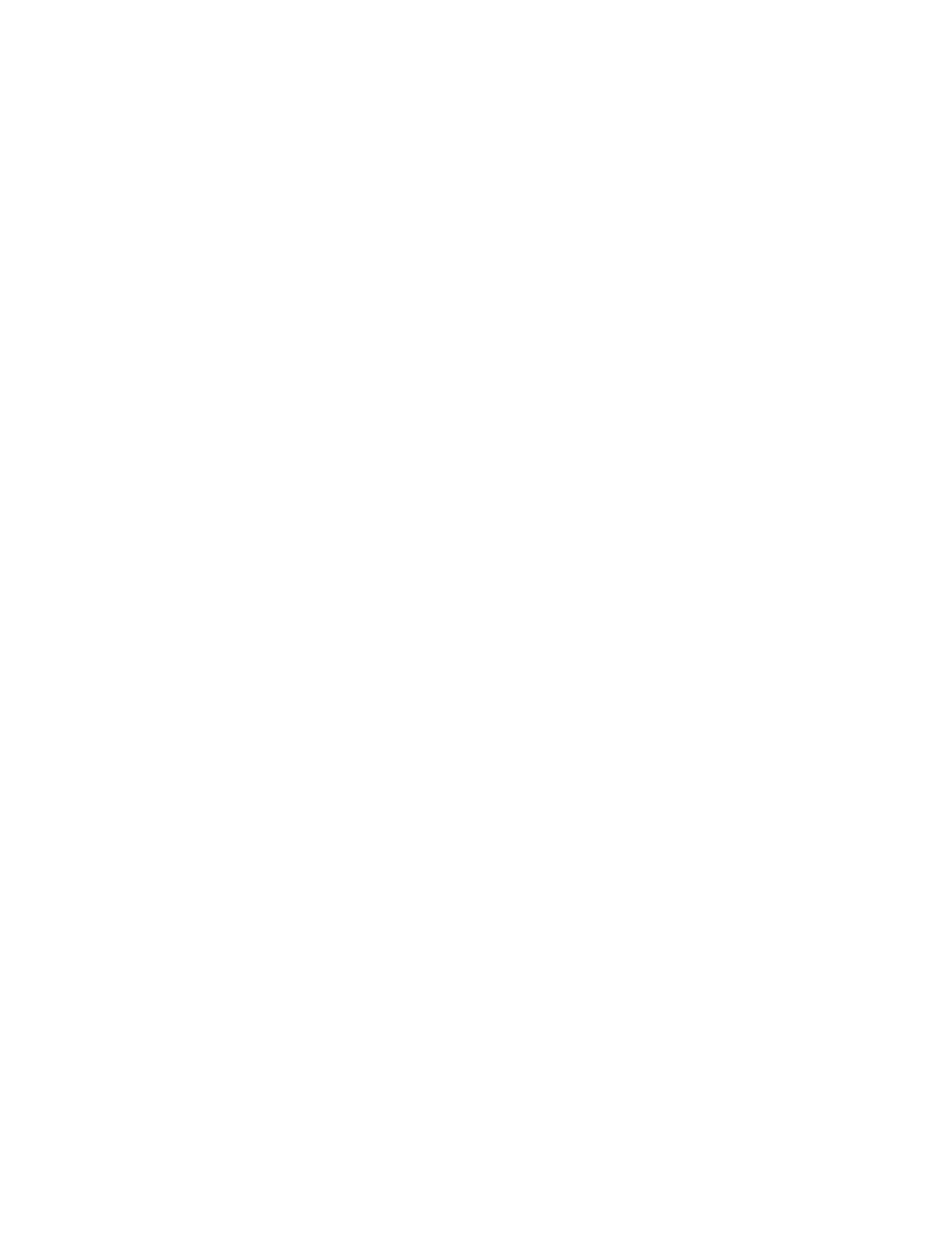
Спящая молодая женщина. Фрагмент
Свет, не сдерживаемый условностями сценариев мифологических и библейских композиций, властвовал в картинах голландцев. Голландские художники XVII века в своих полотнах играют множеством его качеств: он то яркий, то приглушенный и тусклый, он может быть обжигающим, слепящим, выхватывающим предметы из темноты, а может — рассеянным, обволакивающим все мягкой пеленой. Свет стал первостепенно значимым для мастеров кисти. Популяризация науки изменила понимание видимого мира, пробудила особую зрительную чувствительность к формам и фактуре предметов в живописных натюрмортах и интерьерных сценах. В натюрморте свет моделирует объемы фруктов, ваз, цветов и бокалов, фактура небрежно свисающих складок скатертей и ковров смешивается с бархатистой и блестящей кожицей персиков и винограда.
Недаром в Нидерландах возникло свое национальное обозначение нового жанра — натюрморта — «stilleven», то есть «тихая, замершая жизнь». В бытовых сюжетах фактура шелка платьев, звенящая на холоде твердых, гладких плиток пола, вступает в резонанс с теплым деревом потолочных балок и оконных рам.
В картине «Девушка, читающая письмо у окна» (около 1657, Картинная галерея, Дрезден) автор впервые воспроизвел игру света и тени. Удачно найденный здесь композиционный прием он потом будет использовать из раза в раз, изображая героиню лицом к окну, из которого свет попадает в комнату. Самая светлая часть помещения находится немного поодаль от окна, потому что открытая створка и портьера образуют тени. Таким образом, лицо девушки с той стороны, с какой смотрит на нее зритель, находится на фоне темной стены, но само при этом освещено. Задняя же часть фигуры в тени, хотя стена за ней на свету. Декоративная игра тоновых пятен создает эффект шахматной доски: тень стены соприкасается с освещенными лицом, грудью и руками девушки, а спина героини, находящаяся в тени, в свою очередь вырисовывается на фоне светлой части той же стены. Так же как и в «Спящую молодую женщину», Вермеер включил сюда натюрморт с фруктами, живописно поднятый крупными складками ковра с одной стороны.
В картине «Девушка, читающая письмо у окна» (около 1657, Картинная галерея, Дрезден) автор впервые воспроизвел игру света и тени. Удачно найденный здесь композиционный прием он потом будет использовать из раза в раз, изображая героиню лицом к окну, из которого свет попадает в комнату. Самая светлая часть помещения находится немного поодаль от окна, потому что открытая створка и портьера образуют тени. Таким образом, лицо девушки с той стороны, с какой смотрит на нее зритель, находится на фоне темной стены, но само при этом освещено. Задняя же часть фигуры в тени, хотя стена за ней на свету. Декоративная игра тоновых пятен создает эффект шахматной доски: тень стены соприкасается с освещенными лицом, грудью и руками девушки, а спина героини, находящаяся в тени, в свою очередь вырисовывается на фоне светлой части той же стены. Так же как и в «Спящую молодую женщину», Вермеер включил сюда натюрморт с фруктами, живописно поднятый крупными складками ковра с одной стороны.
«Девушка, читающая письмо у окна» — одна из самых загадочных и трогательных картин Вермеера. Мастер долго шел к ее точному, выразительному решению, что подтверждают рентгенограммы — на них видны многочисленные переделки. Например, он убрал из интерьера холст — дополнительный элемент, который разбавлял бы остроту напряженности мысли читающей девушки. Если бы художник не записал эту деталь, то работа не выбивалась бы из русла современных ему жанровых сцен с письмами, такими как, например, у Терборха.
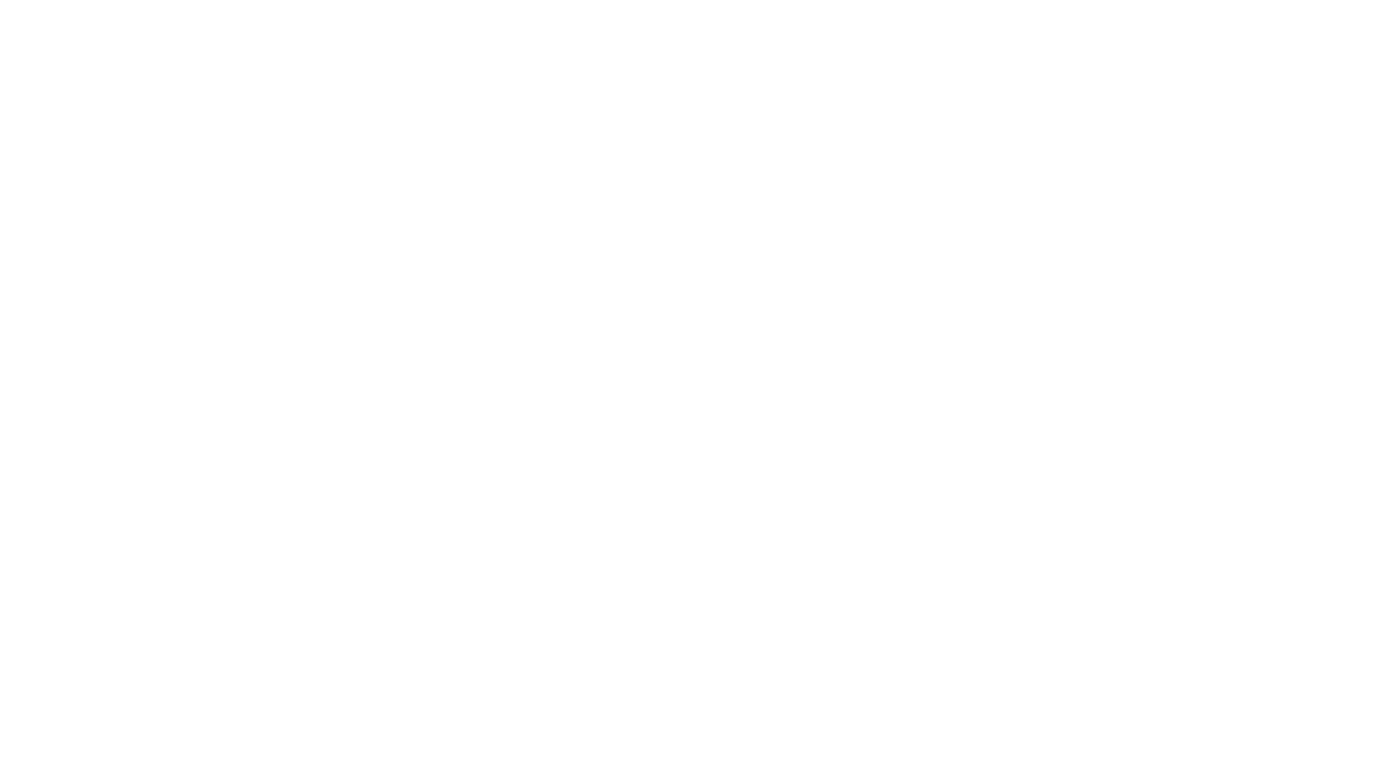
Девушка, читающая письмо у окна. Фрагмент
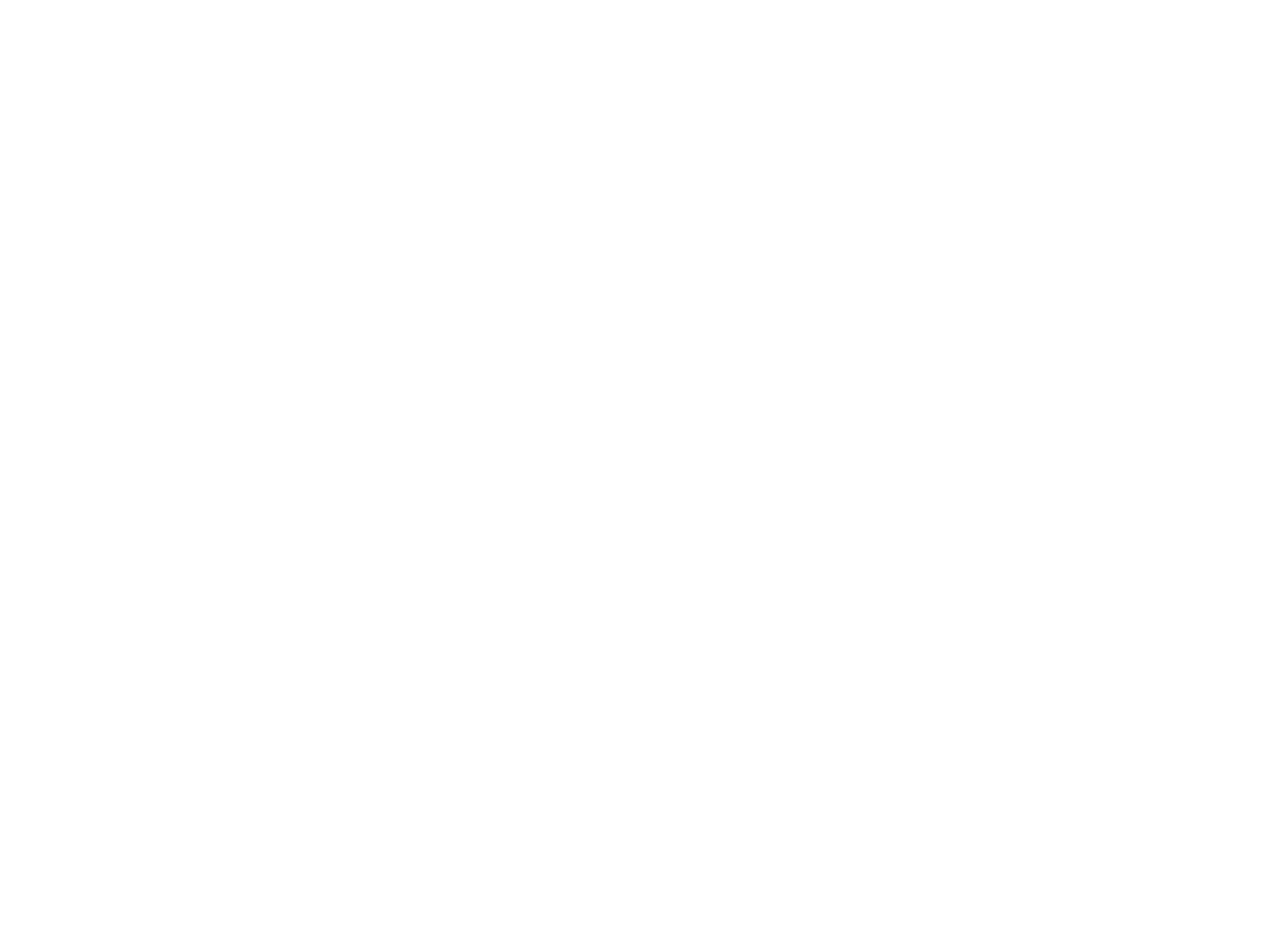
Офицер и смеющаяся девушка. Фрагмент
В произведениях Вермеера стены комнат часто украшают карты (на них даже узнаваемы очертания суши и морей). Голландия на тот момент стала истинной морской державой, и, естественно, они там активно издавались. А недавно открытый (в XVI веке) нетрудоемкий способ печати — офорт — способствовал развитию индустрии сухопутных и навигационных карт. Однако их количество в картинах мастера не так уж велико. Во-первых, потому что самих полотен Вермеера немного, а во-вторых, некоторые карты повторяются из работы в работу. Просто из-за размытого рисунка заднего плана и разного колорита холстов не слишком пытливый зритель одну и ту же карту примет за разные. Не следует упрекать художника в этом приеме, наоборот, способность так представить деталь — свидетельство высокого мастерства.
На героине произведения «Офицер и смеющаяся девушка» (1656−1657, собрание Фрик, Нью-Йорк) — то же желтое платье с полосками, что и на модели с предыдущего полотна. Тот же плотный широкий поднятый лиф, та же белая рубашка или платок, закрывающий плечи и грудь дамы. Вполне вероятно, и женщина та же. Только теперь она не одна, а с гостем, поэтому на голове у нее скромный чепец. На стене висит карта. Может быть, автор намекает, что особу интересуют подвиги кавалера? Он рассказывает ей о своих путешествиях, а она, улыбаясь, с интересом слушает. Ведь совершить путешествие, особенно по морю и к далеким странам, в то время действительно считалось настоящим подвигом, потому что неизведанные морские пути и земли таили множество опасностей.
Сюжеты милых разговоров дам с кавалерами, когда зритель будто находится рядом, наблюдая за происходящим из-за спин героев, известны и у Питера де Хоха. Однако в картине Вермеера больше выразительных обобщений, появившихся благодаря игре светотеневых контрастов и подчеркнутой разномасштабности фигур.
Сюжеты милых разговоров дам с кавалерами, когда зритель будто находится рядом, наблюдая за происходящим из-за спин героев, известны и у Питера де Хоха. Однако в картине Вермеера больше выразительных обобщений, появившихся благодаря игре светотеневых контрастов и подчеркнутой разномасштабности фигур.
Ритмы и пятна теней оконной рамы, огромной шляпы и локтя мужчины словно обрамляют освещенное светом из окна лицо смеющейся девушки, привлекая к нему взгляд зрителя.
Тематические предпочтения жанровых картин голландских художников начала XVII века ограничивались сюжетами, изображавшимися в интерьере и на природе. Заметим, что Вермеер творил в основном в области бытового жанра, но его кисти также принадлежат исполненные с неменьшим мастерством два городских пейзажа — тихая, уютная «Улица в Делфте» (около 1657−1659, Государственный музей, Амстердам) и панорамный «Вид Делфта» (около 1660, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага).
«Улица в Делфте» похожа на многочисленные полотна Питера де Хоха с их улочками, двориками и садиками, где сквозь дверные проемы домов видны служанки, занятые делами, или отдыхающие жители. Но у де Хоха действия этих персонажей выглядят точно так же, как и в его интерьерных сценах. Тогда как высокое здание с крышей, видное от самого тротуара, и мелкие фигуры в «Улице в Делфте» заставляют думать, что перед нами все-таки пейзаж.
Тематические предпочтения жанровых картин голландских художников начала XVII века ограничивались сюжетами, изображавшимися в интерьере и на природе. Заметим, что Вермеер творил в основном в области бытового жанра, но его кисти также принадлежат исполненные с неменьшим мастерством два городских пейзажа — тихая, уютная «Улица в Делфте» (около 1657−1659, Государственный музей, Амстердам) и панорамный «Вид Делфта» (около 1660, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага).
«Улица в Делфте» похожа на многочисленные полотна Питера де Хоха с их улочками, двориками и садиками, где сквозь дверные проемы домов видны служанки, занятые делами, или отдыхающие жители. Но у де Хоха действия этих персонажей выглядят точно так же, как и в его интерьерных сценах. Тогда как высокое здание с крышей, видное от самого тротуара, и мелкие фигуры в «Улице в Делфте» заставляют думать, что перед нами все-таки пейзаж.
Не вызывает сомнений в своей жанровой принадлежности картина «Вид Делфта», на которой изображен красивый панорамный вид города с воды.
Из широкого канала или устья реки вырастают городские стены. Водные артерии для голландских поселений имели первостепенное значение, так как являлись транспортными путями, способствовавшими процветанию страны.
В работе можно рассмотреть арки, прорубленные сквозь стены, через которые корабли с грузами заходили прямо в Делфт. На верхних этажах жилых домов, стоящих непосредственно у воды, голландцы устраивали склады для того, чтобы доставляемые товары не только переправлялись по воде, но и с воды поднимались по тросам в домашние хранилища.
Из широкого канала или устья реки вырастают городские стены. Водные артерии для голландских поселений имели первостепенное значение, так как являлись транспортными путями, способствовавшими процветанию страны.
В работе можно рассмотреть арки, прорубленные сквозь стены, через которые корабли с грузами заходили прямо в Делфт. На верхних этажах жилых домов, стоящих непосредственно у воды, голландцы устраивали склады для того, чтобы доставляемые товары не только переправлялись по воде, но и с воды поднимались по тросам в домашние хранилища.
Композиция «Молочницы» (1658−1660, Государственный музей, Амстердам) снова заставляет зрителя проследить за игрой светотени на стене и фигуре девушки.
С особой чуткостью кисть мастера передает чередование освещенных выпуклостей и углубленных впадин на складках отвернутого чепца. Очень важно, надет ли на героине чепец или нет, раскрыты или отвернуты его поля. Головной убор служил не только признаком скромности девушки, он также был необходим во время выполнения хозяйственных работ. Однако спущенные поля могли мешать, и в таком случае, как представлено на полотне, они загибались.
Интересно сравнить комнату, изображенную в этом произведении, с помещением в работе «Девушка, читающая письмо у окна». При взгляде на последнюю зритель чувствует некоторую напряженность из-за того, что не наблюдает пределов комнаты, образуемых углами. Здесь же виден пол, соприкасающийся с плитками, которые окаймляют нижнюю часть стены.
С особой чуткостью кисть мастера передает чередование освещенных выпуклостей и углубленных впадин на складках отвернутого чепца. Очень важно, надет ли на героине чепец или нет, раскрыты или отвернуты его поля. Головной убор служил не только признаком скромности девушки, он также был необходим во время выполнения хозяйственных работ. Однако спущенные поля могли мешать, и в таком случае, как представлено на полотне, они загибались.
Интересно сравнить комнату, изображенную в этом произведении, с помещением в работе «Девушка, читающая письмо у окна». При взгляде на последнюю зритель чувствует некоторую напряженность из-за того, что не наблюдает пределов комнаты, образуемых углами. Здесь же виден пол, соприкасающийся с плитками, которые окаймляют нижнюю часть стены.
Обычно исследователи, желая найти замаскированную интригу в полотнах голландских жанристов, особое внимание обращают на предметы интерьера и интерпретируют их с точки зрения аллегорических значений, указанных в книгах эмблем того времени.
Однако совершенно не обязательно так глубоко копать. Костюм, к примеру, скажет очень многое о личности изображенной дамы. Это в нынешнее время цвет и степень открытости одежды не являются показателями принадлежности ее владельца к тому или иному социальному слою и почти никогда не раскрывают род его деятельности, поэтому сложно понять, какую роль играют мелкие отличия платьев героинь Вермеера. Но стоит только задаться целью — и многое станет ясно.
Однако совершенно не обязательно так глубоко копать. Костюм, к примеру, скажет очень многое о личности изображенной дамы. Это в нынешнее время цвет и степень открытости одежды не являются показателями принадлежности ее владельца к тому или иному социальному слою и почти никогда не раскрывают род его деятельности, поэтому сложно понять, какую роль играют мелкие отличия платьев героинь Вермеера. Но стоит только задаться целью — и многое станет ясно.
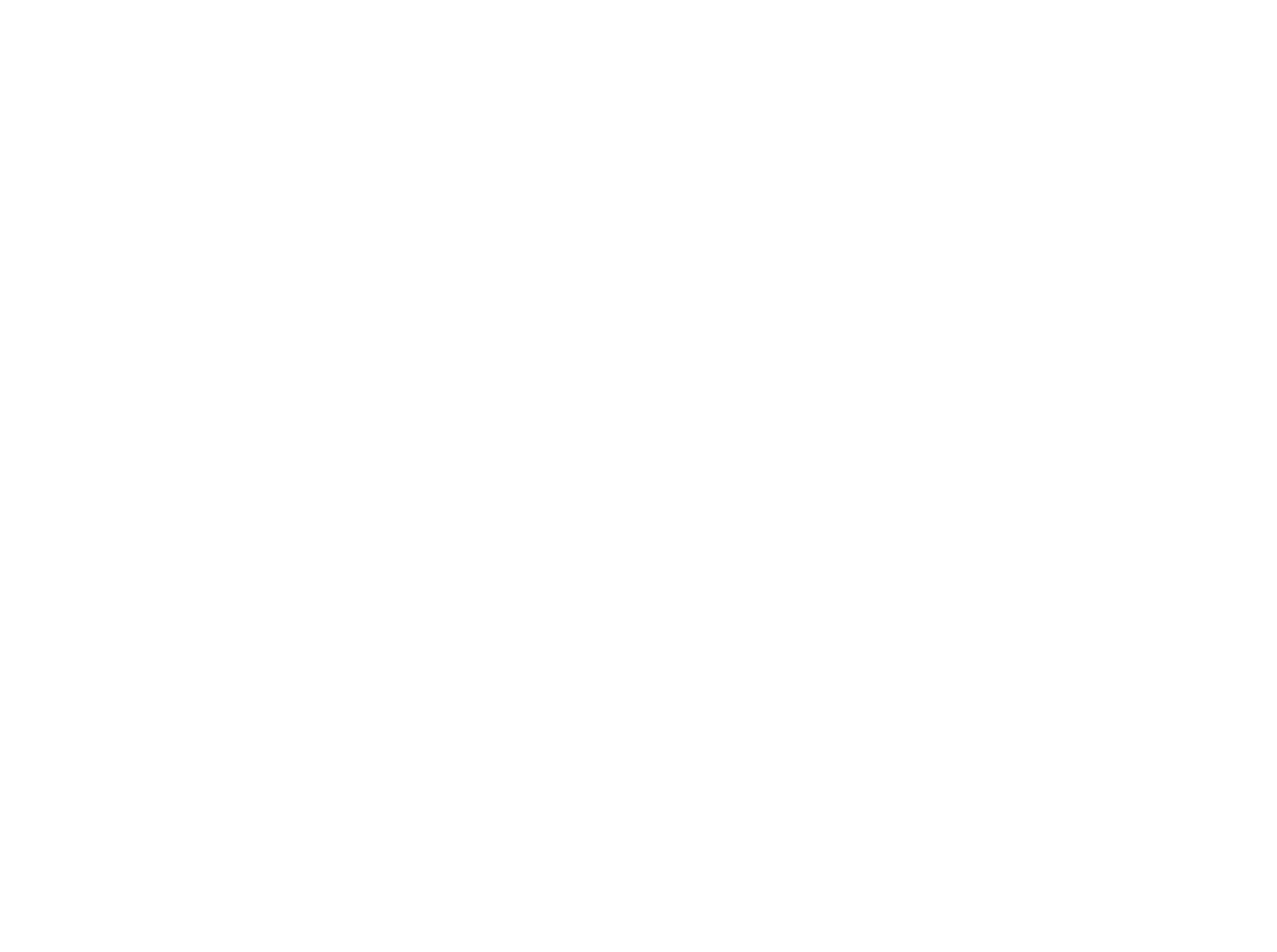
Молочница. Фрагмент
Большинство дам с холстов мастера носят чепец, закрывающий голову, и одежду неброских цветов. Мужчине XVII века нужно было иметь сверхавантюрный склад характера, чтобы посметь увлечься такой девушкой несерьезно. Но наряды героинь на картинах «Бокал вина» (около 1658−1660, Картинная галерея, Берлин) и «Дама и два кавалера» (1660, Музей герцога Антона-Ульриха, Брауншвейг) не назовешь скромными — они в привлекательных платьях красного цвета с блестками, на одной из них даже нет чепца, у особы изящная прическа с яркими лентами.
Еще одна немаловажная деталь — бокал вина, такой же держит в руке дама с полотна «У сводни». Отмеченные нюансы очень характерны: они демонстрируют зрителю ветреность девушек и то, что мужчина рядом с ними может легко их соблазнить.
Еще одна немаловажная деталь — бокал вина, такой же держит в руке дама с полотна «У сводни». Отмеченные нюансы очень характерны: они демонстрируют зрителю ветреность девушек и то, что мужчина рядом с ними может легко их соблазнить.
Другое дело — картина «Прерванный урок музыки» (1660−1661, собрание Фрик, Нью-Йорк).
Зритель снова становится свидетелем вполне пристойной сцены. Закрытая одежда и чепец девушки не отвлекают ничем не соблазняемого мужчину от нот. Холодный, льющийся в комнату свет выхватывает из темноты спинку небрежно отодвинутого стула, заставляет играть бликами лаковую поверхность музыкального инструмента, лежащего на столе, мягко ложится на лица, скользит по широким складкам одежд, образуя в них тени.
Поток света задерживают сложная конструкция рамы и традиционные голландские витражи. Возле окна стоит стол, на котором можно разложить ноты для занятий музыкой или накрыть его яствами, подготовившись к встрече гостей.
Зритель снова становится свидетелем вполне пристойной сцены. Закрытая одежда и чепец девушки не отвлекают ничем не соблазняемого мужчину от нот. Холодный, льющийся в комнату свет выхватывает из темноты спинку небрежно отодвинутого стула, заставляет играть бликами лаковую поверхность музыкального инструмента, лежащего на столе, мягко ложится на лица, скользит по широким складкам одежд, образуя в них тени.
Поток света задерживают сложная конструкция рамы и традиционные голландские витражи. Возле окна стоит стол, на котором можно разложить ноты для занятий музыкой или накрыть его яствами, подготовившись к встрече гостей.
Героиня произведения «Молодая женщина с кувшином у окна» (около 1660−1662, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) своей задумчивостью вызывает интерес и симпатию.
Мир вермееровских персонажей тем и привлекателен, что на их месте человек любой эпохи может представить себя.
Что происходило бы внутри каждого из нас, будь он на месте молодой женщины? Вероятно, мы перебирали бы в голове предстоящие домашние заботы дня или погрузились в свои мысли, мечтая о долгожданной встрече с дорогим человеком.
А может быть, в действительности женщина и не задумалась, а просто механически двигает одной рукой оконную раму, а другой — кувшин. Но, с другой стороны, зачем совершать два сложных действия одновременно? Ведь кувшин тяжел, для его переноски даже приспособлен широкий поднос.
Особое настроение создают разнонаправленные ритмы темных пятен фигуры и рук на фоне светлой стены.
Мир вермееровских персонажей тем и привлекателен, что на их месте человек любой эпохи может представить себя.
Что происходило бы внутри каждого из нас, будь он на месте молодой женщины? Вероятно, мы перебирали бы в голове предстоящие домашние заботы дня или погрузились в свои мысли, мечтая о долгожданной встрече с дорогим человеком.
А может быть, в действительности женщина и не задумалась, а просто механически двигает одной рукой оконную раму, а другой — кувшин. Но, с другой стороны, зачем совершать два сложных действия одновременно? Ведь кувшин тяжел, для его переноски даже приспособлен широкий поднос.
Особое настроение создают разнонаправленные ритмы темных пятен фигуры и рук на фоне светлой стены.
На картине «Урок музыки» (1662, Королевское собрание произведений искусства, Лондон) изображены играющая девушка и мужчина, слушающий ее настолько внимательно, что кажется, будто он боится упустить звучание даже одной ноты.
О сути происходящего несложно догадаться, даже не зная названия работы. При взгляде на напряженную позу героя сложно представить себе, что он лишь гость, для наслаждения которого музицирует хозяйка. Нет, он, конечно же, преподаватель, проверяющий качество игры своей ученицы.
В произведении с легкостью решена непростая задача передачи глубины пространства за счет деталей разных планов и найдена гармония ритмического взаимодействия двух фигур, но такого ощущения «найденности» образа, как в однофигурных композициях Вермеера, у зрителя не возникает. И действительно, можно с легкостью представить даму одну, без мужчины, и наоборот — настолько спокойны их позы, говорящие о том, что каждый погружен в себя и музыку.
О сути происходящего несложно догадаться, даже не зная названия работы. При взгляде на напряженную позу героя сложно представить себе, что он лишь гость, для наслаждения которого музицирует хозяйка. Нет, он, конечно же, преподаватель, проверяющий качество игры своей ученицы.
В произведении с легкостью решена непростая задача передачи глубины пространства за счет деталей разных планов и найдена гармония ритмического взаимодействия двух фигур, но такого ощущения «найденности» образа, как в однофигурных композициях Вермеера, у зрителя не возникает. И действительно, можно с легкостью представить даму одну, без мужчины, и наоборот — настолько спокойны их позы, говорящие о том, что каждый погружен в себя и музыку.
На холсте «Дама в голубом, читающая письмо» (после 1664, Государственный музей, Амстердам) вновь запечатлена одинокая героиня, читающая письмо незримого собеседника, уходя в мир его мыслей. Рядом с ней никого нет, и ей не нужен чепец, который скрывал бы ее волосы от посторонних глаз. Излюбленный светотеневой прием художник на сей раз применяет не на стене, а на висящей карте.
Необходимо отметить, что круг сюжетов основных произведений Вермеера узок. Он, в отличие от фламандских и итальянских мастеров, изображавших в своих многофигурных полотнах активное действие, в основном показывал мир созерцателей.
На картине «Девушка с лютней» (1664, Музей Метрополитен, Нью-Йорк), как это почти всегда бывает у живописца, героиня находится у окна. Она напряженно смотрит на улицу, будто пытаясь понять, слышна ли там ее музыка. Композиция так жива и динамична, что возникает вопрос: почему же остальные изображения стоящих у окна женщин кисти Вермеера интересны, несмотря на то что спокойны?
Необходимо отметить, что круг сюжетов основных произведений Вермеера узок. Он, в отличие от фламандских и итальянских мастеров, изображавших в своих многофигурных полотнах активное действие, в основном показывал мир созерцателей.
На картине «Девушка с лютней» (1664, Музей Метрополитен, Нью-Йорк), как это почти всегда бывает у живописца, героиня находится у окна. Она напряженно смотрит на улицу, будто пытаясь понять, слышна ли там ее музыка. Композиция так жива и динамична, что возникает вопрос: почему же остальные изображения стоящих у окна женщин кисти Вермеера интересны, несмотря на то что спокойны?
Ответ прост: потому что в произведениях мастера окно также является действующим героем. Ведь именно к нему поворачиваются персонажи, чтобы падающий свет помог прочитать письмо, увидеть глаза собеседника, как в «Офицере и смеющейся девушке», или перелить молоко так, чтобы не пролить ни капли, как в «Молочнице».
Вот и девушка, смотрящаяся в зеркало в работе «Жемчужное ожерелье» (около 1665, Картинная галерея, Берлин), стоит рядом с окном. Оно и в этом случае играет активную роль, выгодно освещая лицо любующейся на себя красавицы.
К полотну «Женщина, взвешивающая жемчуг» (около 1665, Национальная картинная галерея, Вашингтон) как нельзя лучше подходит традиционное для голландской живописи аллегорическое прочтение. Считается, что действия героини с весами в руках созвучны картине Страшного суда, расположенной на заднем плане. Перед нами живописное воплощение популярной в то время темы Vanitas (восходящей к крылатому библейскому выражению «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» (лат.) — «Суета сует и все — суета». Книга Екклезиаста, 1:2).
Вот и девушка, смотрящаяся в зеркало в работе «Жемчужное ожерелье» (около 1665, Картинная галерея, Берлин), стоит рядом с окном. Оно и в этом случае играет активную роль, выгодно освещая лицо любующейся на себя красавицы.
К полотну «Женщина, взвешивающая жемчуг» (около 1665, Национальная картинная галерея, Вашингтон) как нельзя лучше подходит традиционное для голландской живописи аллегорическое прочтение. Считается, что действия героини с весами в руках созвучны картине Страшного суда, расположенной на заднем плане. Перед нами живописное воплощение популярной в то время темы Vanitas (восходящей к крылатому библейскому выражению «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» (лат.) — «Суета сует и все — суета». Книга Екклезиаста, 1:2).
Зеркало усиливает эффект символического замысла композиции, раскрывая суть происходящего в душе женщины. Так же как смотрятся в зеркало, желая увидеть недостатки и достоинства внешности, она мысленно взвешивает свою жизнь, проверяя, по какую сторону от Христа окажется в Судный день.
Предложенная трактовка сюжета выглядит тем более справедливо, что на весах ничего нет — сей факт был установлен специальной экспертизой. Может быть, погрузившись в раздумья, героиня случайно увидела весы на столе и взяла их в руки, представив, как Христос положит на разные чаши ее добрые и греховные поступки. Названа же картина так в связи с тем, что на столе лежит жемчуг, и поначалу объяснение действиям женщины напрашивается само собой.
Знаменитый портрет «Девушка с жемчужной сережкой» (около 1665−1666, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага) покорил своей доверительной интимностью сердца множества любителей искусства. Темный фон выгодно подчеркивает бархатистость кожи молодого лица юной героини и сияющий блеск в глазах.
Предложенная трактовка сюжета выглядит тем более справедливо, что на весах ничего нет — сей факт был установлен специальной экспертизой. Может быть, погрузившись в раздумья, героиня случайно увидела весы на столе и взяла их в руки, представив, как Христос положит на разные чаши ее добрые и греховные поступки. Названа же картина так в связи с тем, что на столе лежит жемчуг, и поначалу объяснение действиям женщины напрашивается само собой.
Знаменитый портрет «Девушка с жемчужной сережкой» (около 1665−1666, Королевская галерея Маурицхейс, Гаага) покорил своей доверительной интимностью сердца множества любителей искусства. Темный фон выгодно подчеркивает бархатистость кожи молодого лица юной героини и сияющий блеск в глазах.
В работе «Концерт» (1665−1666, в 1990 похищена из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер), как и в «Уроке музыки», зритель вновь встречается с музицирующими людьми, фигуры которых освещены светом из окна, льющимся на стены, пол и окружающие предметы. Красочной массивностью на фоне черно-белых плиток пола «звучит» угол стола, покрытого ковром, отдаляя сцену с героинями вглубь холста. Девушки играют без чепцов, мешающих движениям. Но на этот раз нет никаких намеков на то, что у них могут быть непристойные помыслы. Одно из двух: либо автор просто хотел подчеркнуть красоту одухотворенных личностей, издающих чарующие звуки, либо пытался показать их близость — ведь музыка стирает границы общения. В данном случае исследователи сходятся во мнении, что этой картиной Вермеер желал сказать о благотворном влиянии музыки на душу человека. Не в пример ему в произведениях Яна Стена, Франса ван Мириса Старшего и Габриэля Метсю музицирующих персонажей сопровождает скульптура амура, которая должна предупредить зрителя: здесь имеет место быть любовное обольщение.
Словно в театре, откинут занавес, приоткрывающий вид на художника за работой и его модель, на полотне «Аллегория живописи» (около 1666, Художественно-исторический музей, Вена).
Словно в театре, откинут занавес, приоткрывающий вид на художника за работой и его модель, на полотне «Аллегория живописи» (около 1666, Художественно-исторический музей, Вена).
Здесь присутствует множество не связанных общим предназначением предметов, что сразу наводит на мысль об их аллегорическом значении. И это действительно так: например, абсолютно ясно, что мастер пишет с натурщицы музу истории Клио, о чем свидетельствуют венок на ее голове, означающий Славу, труба в руках и книга Фукидида — символы Истории. Почему именно Клио? В те времена наиболее предпочтительным жанром живописи был исторический.
Венок, с изображения которого начал свою работу представленный в «Аллегории живописи» художник, может символизировать все полотна самого Вермеера, которые увенчают, как он надеялся, славой его отечество. За спиной Клио красуется карта Голландии с подробными картами отдельных городов, история этой страны — еще один повод для гордости ее обитателей. По мнению исследователей, Вермеер надеялся на то, что его поймут правильно, так как верил, что принесет славу своей стране. Если это действительно так, то в одном он точно не ошибся — в высокой оценке собственного таланта. Помимо всего остального, восхитительные полотна мастера действительно привлекли внимание всего мира к его родине.
Венок, с изображения которого начал свою работу представленный в «Аллегории живописи» художник, может символизировать все полотна самого Вермеера, которые увенчают, как он надеялся, славой его отечество. За спиной Клио красуется карта Голландии с подробными картами отдельных городов, история этой страны — еще один повод для гордости ее обитателей. По мнению исследователей, Вермеер надеялся на то, что его поймут правильно, так как верил, что принесет славу своей стране. Если это действительно так, то в одном он точно не ошибся — в высокой оценке собственного таланта. Помимо всего остального, восхитительные полотна мастера действительно привлекли внимание всего мира к его родине.
«Портрет девушки в красной шляпе» (около 1668 (?), Национальная галерея искусств, Вашингтон) — один из женских погрудных портретов Вермеера.
Темный фон, интригующий взгляд модели, поворот шеи, приоткрытые блестящие губы — все так же, как в «Девушке с жемчужной сережкой». Романтичность образа нарушает плоская красная шляпа, придающая внешнему виду героини мальчишеские черты. Только горящие бликами огромные жемчужные серьги не позволяют зрителю ошибиться; это украшение, кстати, видно на всех женских персонажах Вермеера, если только на них не надет чепец или их уши не скрывает прическа.
Парной к этой картине считается «Девушка с флейтой» (около 1666, Национальная картинная галерея, Вашингтон) — обе написаны на дереве, имеют одинаковый формат и созданы примерно в одно время.
Однако недостаточно виртуозное исполнение «Девушки с флейтой» заставило исследователей выдвинуть гипотезу, что полотно принадлежит не Вермееру, а кому-то из его учеников, которые, по всей вероятности, у него были, хотя точных данных на этот счет не имеется.
Темный фон, интригующий взгляд модели, поворот шеи, приоткрытые блестящие губы — все так же, как в «Девушке с жемчужной сережкой». Романтичность образа нарушает плоская красная шляпа, придающая внешнему виду героини мальчишеские черты. Только горящие бликами огромные жемчужные серьги не позволяют зрителю ошибиться; это украшение, кстати, видно на всех женских персонажах Вермеера, если только на них не надет чепец или их уши не скрывает прическа.
Парной к этой картине считается «Девушка с флейтой» (около 1666, Национальная картинная галерея, Вашингтон) — обе написаны на дереве, имеют одинаковый формат и созданы примерно в одно время.
Однако недостаточно виртуозное исполнение «Девушки с флейтой» заставило исследователей выдвинуть гипотезу, что полотно принадлежит не Вермееру, а кому-то из его учеников, которые, по всей вероятности, у него были, хотя точных данных на этот счет не имеется.
В «Портрете молодой девушки» (около 1666- 1667, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) так же, как и в «Девушке с жемчужной сережкой», темный фон словно дышит глубиной.
Он плавно сливается с цветом волос изображенной, а светлая ткань, спускающаяся в виде шлейфа с ее головы, придает особую таинственность образу неизвестной. Ее обаятельная полуулыбка напоминает Джоконду Леонардо да Винчи, если бы не живость сияющих блеском глаз, выдающих задоринку в характере нежной особы.
Художник так умело передал эти качества, что почти незаметными стали некоторые недостатки ее внешности — неизящная линия бровей, слишком широкий лоб и узкий подбородок.
Девушку нельзя назвать красивой, скорее миловидной. Искренняя доверчивость, чуткость и открытость, светящиеся в глазах и улыбке, подчеркивают ее привлекательность.
Он плавно сливается с цветом волос изображенной, а светлая ткань, спускающаяся в виде шлейфа с ее головы, придает особую таинственность образу неизвестной. Ее обаятельная полуулыбка напоминает Джоконду Леонардо да Винчи, если бы не живость сияющих блеском глаз, выдающих задоринку в характере нежной особы.
Художник так умело передал эти качества, что почти незаметными стали некоторые недостатки ее внешности — неизящная линия бровей, слишком широкий лоб и узкий подбородок.
Девушку нельзя назвать красивой, скорее миловидной. Искренняя доверчивость, чуткость и открытость, светящиеся в глазах и улыбке, подчеркивают ее привлекательность.
Темный фон, на сей раз на полотне «Дама и служанка с письмом» (1667, собрание Фрика, Нью-Йорк), с особенной нежностью подчеркивает тон кожи и яркость одеяния хозяйки, поглощая фигуру служанки в скромном коричневом платье. Жестом руки главная героиня выдает волнение и трепет.
Эта картина так и осталась единственным известным случаем, когда в двухфигурной композиции Вермеер поменял любимую освещенную дневным светом из окна стену на абсолютно глухую и темную. Примерно тогда же мастер изменил и теме дам, стоящих в задумчивом одиночестве с письмами у окна. Здесь он с большей силой интригует зрителя, вводя дополнительного персонажа — служанку.
Женщины в произведениях Вермеера — это прекрасные чувственные создания, музицирующие или погруженные в чтение писем от близких. Однако в двух единственных случаях портретного изображения мужчин, напряженно работающих с научными инструментами, зритель видит отважных, стремящихся делать открытия и мечтающих о подвигах во славу родной страны людей.
Эта картина так и осталась единственным известным случаем, когда в двухфигурной композиции Вермеер поменял любимую освещенную дневным светом из окна стену на абсолютно глухую и темную. Примерно тогда же мастер изменил и теме дам, стоящих в задумчивом одиночестве с письмами у окна. Здесь он с большей силой интригует зрителя, вводя дополнительного персонажа — служанку.
Женщины в произведениях Вермеера — это прекрасные чувственные создания, музицирующие или погруженные в чтение писем от близких. Однако в двух единственных случаях портретного изображения мужчин, напряженно работающих с научными инструментами, зритель видит отважных, стремящихся делать открытия и мечтающих о подвигах во славу родной страны людей.
Возможно, создать собирательные образы из «Астронома» (1668−1669, Лувр, Париж) и «Географа» (1668−1669, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне) мастер захотел под впечатлением от личности своего знакомого — Левенгука. На переднем плане обеих картин на столе зритель видит уже знакомые по другим композициям складки толстого узорчатого ковра. Интересно, что на полотнах с изображением женщин своей тяжестью они выгодно подчеркивают изящность их фигур, а здесь — силу порывистой мысли открывателей.
Перечень работ Вермеера со сценами, связанными с письмом, немал (относительно всего его наследия), многие из них с явно романтическим подтекстом. Но только в названии картины «Любовное письмо» (около 1670, Государственный музей, Амстердам) автор прямо заявил об этом, не забыв, однако, подчеркнуть свою идею с помощью деталей интерьера, о чем пойдет речь ниже. Стоя перед полотном, зритель чувствует себя неловко — он словно внезапно застигает растерянную женщину, которой совершенно неожиданно для нее вручили письмо. Причину ее смущения нетрудно угадать: послание от мужчины значит, что когда-то дама дала повод к его написанию.
Перечень работ Вермеера со сценами, связанными с письмом, немал (относительно всего его наследия), многие из них с явно романтическим подтекстом. Но только в названии картины «Любовное письмо» (около 1670, Государственный музей, Амстердам) автор прямо заявил об этом, не забыв, однако, подчеркнуть свою идею с помощью деталей интерьера, о чем пойдет речь ниже. Стоя перед полотном, зритель чувствует себя неловко — он словно внезапно застигает растерянную женщину, которой совершенно неожиданно для нее вручили письмо. Причину ее смущения нетрудно угадать: послание от мужчины значит, что когда-то дама дала повод к его написанию.
Красноречив молчаливый диалог служанки и ее хозяйки. Тонкий психологизм, характеризующий представшую перед зрителем немую сцену, снова убеждает в высочайшем мастерстве Вермеера, наделяющего своих персонажей индивидуальными чертами. Бельевая корзина, щетка и туфли свидетельствуют о домовитости женщины и верном выборе ее воздыхателя. Серьезность намерений со стороны обоих автор подчеркнул, введя в композицию две висящие на стене картины с тихими пейзажами, на которых нет ни бурь, ни грозовых облаков. Кстати, помимо Вермеера сходный прием использовал Метсю в «Женщине, читающей письмо» и «Мужчине, пишущем письмо», написанных около 1666−1667 и хранящихся в собрании сэра Альфреда Бейта в Ирландии.
Мастерство художника демонстрирует изящная лепка лица склонившейся над работой героини «Кружевницы» (1669−1670, Лувр, Париж). Вихрящиеся мазки хорошо передают фактуру тонких спутанных нитей на переднем плане, а чарующие своей мягкостью темно-русые волосы написаны плавными касаниями кисти.
Мастерство художника демонстрирует изящная лепка лица склонившейся над работой героини «Кружевницы» (1669−1670, Лувр, Париж). Вихрящиеся мазки хорошо передают фактуру тонких спутанных нитей на переднем плане, а чарующие своей мягкостью темно-русые волосы написаны плавными касаниями кисти.
В очередной раз свидетельницей переписки хозяйки становится служанка в картине «Ответное послание» (1667−1670, Национальная галерея Ирландии, Дублин). В разных источниках название произведения отличается, иногда его называют просто «Женщина, пишущая письмо, и ее служанка», не строя домыслов относительно сюжета. Поза служанки, с нетерпением посматривающей в окно, словно говорит о ее сочувствии адресату, который очень ждет скорого ответа. Но кто знает: быть может, хозяйка гораздо смелей, чем кажется, и не отвечает, а первая пишет мужчине; служанка же с удовольствием поддерживает ее в этом. Огромное поле для различных догадок относительно содержимого послания оставляет помещенная автором на задний план картина «Дочь фараона находит младенца Моисея». Вероятно, в письме выражается надежда, что Божественное провидение не оставит того, кому оно адресовано. Таким образом женщина духовно поддерживает своего невидимого собеседника, веря в защиту и покровительство всемогущего Бога. Нежно сочится через тонкую занавеску свет, скользя по стене и плиткам пола. Одному Господу да адресату ведомы слова, которые тщательно выводит женщина на сияющем белизной листке бумаги.
Смелая композиция «Девушки, играющей на гитаре» (до 1670, Кенвуд хаус, Лондон) вызывает несколько недоуменных вопросов. К кому обращается героиня, так заманчиво улыбаясь? Почему она изображена в свободной раскованной позе, у края картины, за которым не виден ее незримый собеседник? Для чего ее локоть срезан краем полотна?
Несмотря на возникающие вопросы, известно, что у произведения не было пары, иначе вместе с остальными она бы значилась в документах вдовы Вермеера о продаже. Единственное, что можно предполагать, — дарование художника делало его настолько смелым экспериментатором, что он использовал любое средство в стремлении максимально точно создать нужный ему образ.
В картине «Дама у вирджинала» (около 1670, Национальная галерея, Лондон) женщина стоит спиной к окну в отличие от большинства других героинь Вермеера. Но и здесь мастер снова применил свой излюбленный прием шахматного чередования освещенных и погруженных в тень поверхностей.
Несмотря на возникающие вопросы, известно, что у произведения не было пары, иначе вместе с остальными она бы значилась в документах вдовы Вермеера о продаже. Единственное, что можно предполагать, — дарование художника делало его настолько смелым экспериментатором, что он использовал любое средство в стремлении максимально точно создать нужный ему образ.
В картине «Дама у вирджинала» (около 1670, Национальная галерея, Лондон) женщина стоит спиной к окну в отличие от большинства других героинь Вермеера. Но и здесь мастер снова применил свой излюбленный прием шахматного чередования освещенных и погруженных в тень поверхностей.
Лицо дамы выигрышно смотрится на фоне картины и рамы, которым для этого найдено особое место. Однако, несмотря на это, для данной композиции в общем характерна большая раздробленность в сравнении с другими работами Вермеера. Много места отведено картине с амуром на стене, что наводит на мысль о ее символическом значении в композиции. И зрителю совсем не безразлично это значение: из-за того что женщина смотрит прямо и будто специально исполняет музыкальное произведение, ее душевное состояние начинает представлять особенный интерес. А полотно с амуром удовлетворяет его — становится понятно, что девушка влюблена. Наверное, это первая в ее жизни любовь. Дело в том, что картина в картине полностью повторяет композицию гравюры Отто ван Вена «Perfectus amor rst nisi ad unum» («Настоящую любовь можно испытывать лишь к кому-то одному» — лат.) из книги «Amorum emblemata», в которой имелись изображения с подписями и разъясняющие общее содержание тексты. Голландские живописцы, в том числе и Вермеер, часто использовали в своих произведениях картинки из подобных книг, желая заинтриговать зрителя загадками.
Так же, как и в предыдущей работе, героиня полотна «Дама, сидящая за вирджиналом» (около 1673, Национальная галерея, Лондон) играет, обращая взгляд на зрителя, что особенно характерно для портретного жанра. Но неудачное нагромождение предметов словно сбило с толку художника, привыкшего скупо и лаконично изображать интерьеры. Вот почему в этом произведении Вермеера не чувствуется остроты предыдущих.
Темные складки занавеса словно приоткрывают перед зрителем сцену, происходящую в глубине картины «Аллегория веры» (1671−1674, Музей Метрополитен, Нью-Йорк).
Смысловой строй композиции начинает свое развитие в центральной нижней части полотна, где изображена змея (змей — искуситель прародителей человечества), придавленная камнем (камень веры — Христос). Так Христос даровал миру (чуть выше сцены со змеей изображен глобус) веру (женская фигура, ее олицетворяющая, — над глобусом) и возможность соединяться с Собой в таинстве Евхаристии (на столе стоит чаша). Спаситель также дал людям любовь.
Темные складки занавеса словно приоткрывают перед зрителем сцену, происходящую в глубине картины «Аллегория веры» (1671−1674, Музей Метрополитен, Нью-Йорк).
Смысловой строй композиции начинает свое развитие в центральной нижней части полотна, где изображена змея (змей — искуситель прародителей человечества), придавленная камнем (камень веры — Христос). Так Христос даровал миру (чуть выше сцены со змеей изображен глобус) веру (женская фигура, ее олицетворяющая, — над глобусом) и возможность соединяться с Собой в таинстве Евхаристии (на столе стоит чаша). Спаситель также дал людям любовь.
Выразителем любви ко Христу Распятому и в то же время олицетворением премудрости является Иоанн Богослов, показанный на картине Распятия, висящей на стене. Премудрость подается человеку самим Богом, поэтому над евангелистом висит стеклянный шар, завершающий собой смысловую диагональ композиции.
Итак, мудрости (прозрачная сфера — символ разума) мир сможет достичь через веру и любовь ко Христу. Поза женщины, прижавшей руку к сердцу и всем своим телом и взглядом устремившейся к распятию, означает порыв к Господу. Она олицетворяет веру мира в своего Спасителя, то есть мир должен веровать так же сильно, как она показывает это зрителю. Героиня властно придерживает глобус — так императрица держит в ладони державу. Глобус готов скатиться с подиума, но благодаря Вере остается на месте — вот и судьба реального мира зависит от того, насколько сильна будет в нем вера.
А с другой стороны, ее жест бережный. Вера, будто мать, закрывает земной шар юбкой. Это аллегорическое полотно Вермеера не признается исследователями верхом совершенства. Закатившиеся глаза героини у неподготовленного зрителя вызовут сочувствие к несчастной, а не мысли о высоком.
Итак, мудрости (прозрачная сфера — символ разума) мир сможет достичь через веру и любовь ко Христу. Поза женщины, прижавшей руку к сердцу и всем своим телом и взглядом устремившейся к распятию, означает порыв к Господу. Она олицетворяет веру мира в своего Спасителя, то есть мир должен веровать так же сильно, как она показывает это зрителю. Героиня властно придерживает глобус — так императрица держит в ладони державу. Глобус готов скатиться с подиума, но благодаря Вере остается на месте — вот и судьба реального мира зависит от того, насколько сильна будет в нем вера.
А с другой стороны, ее жест бережный. Вера, будто мать, закрывает земной шар юбкой. Это аллегорическое полотно Вермеера не признается исследователями верхом совершенства. Закатившиеся глаза героини у неподготовленного зрителя вызовут сочувствие к несчастной, а не мысли о высоком.
А поза женщины, призванная показать ее экстаз, способна натолкнуть зрителя на мысль, что она почувствовала себя неважно.
Со свойственной ему маэстрией жизнеподобия художник поместил аллегорию Веры в голландский интерьер. Но реалистичность обстановки не подходит для символического образа и больше соответствует для изображения дам и кавалеров бюргерского сословия XVII века. Замысел полотна для неподготовленного зрителя нуждается в обязательной расшифровке, иначе его образный строй остается непонятым.
Несмотря на некоторые погрешности последних работ Яна Вермеера, мастер признается исследователями искусства единственным, в творчестве которого встречается такой высокий процент шедевров.
Со свойственной ему маэстрией жизнеподобия художник поместил аллегорию Веры в голландский интерьер. Но реалистичность обстановки не подходит для символического образа и больше соответствует для изображения дам и кавалеров бюргерского сословия XVII века. Замысел полотна для неподготовленного зрителя нуждается в обязательной расшифровке, иначе его образный строй остается непонятым.
Несмотря на некоторые погрешности последних работ Яна Вермеера, мастер признается исследователями искусства единственным, в творчестве которого встречается такой высокий процент шедевров.
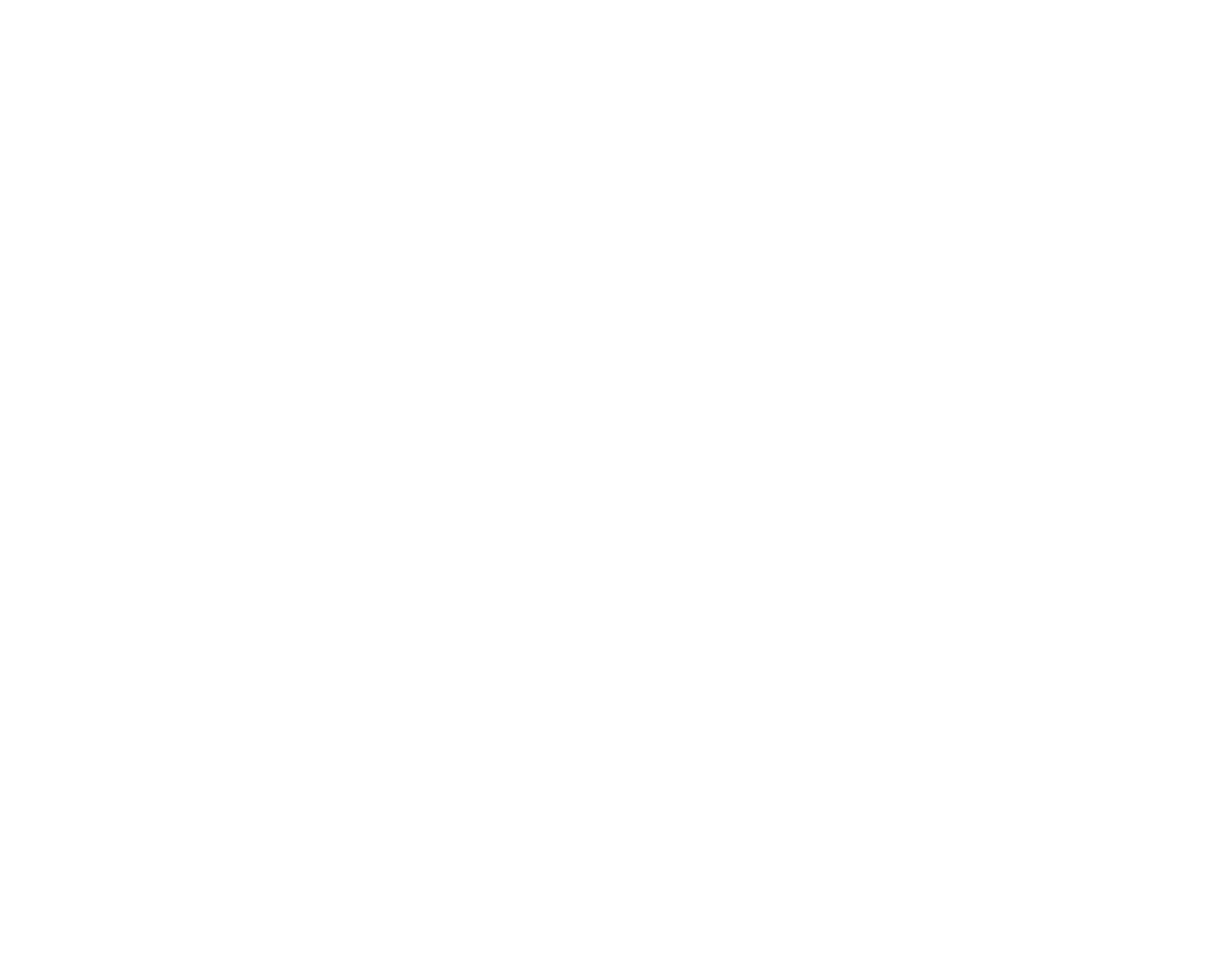
Аллегория Веры. Фрагмент
Угадай произведение Яна Вермеера по фрагменту
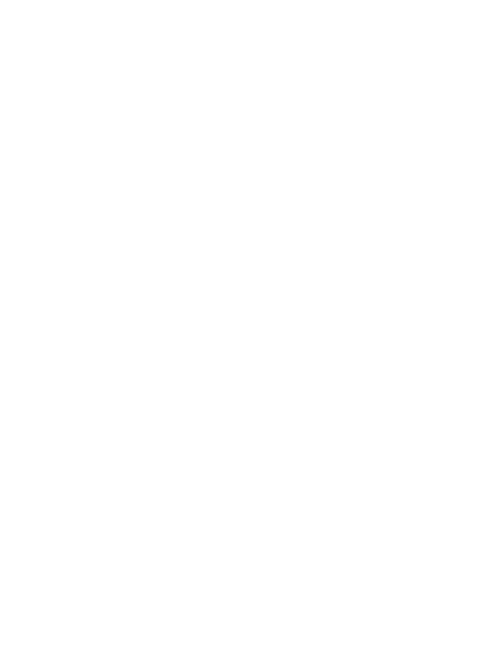
| Начать тест |
Из какой картины этот фрагмент?
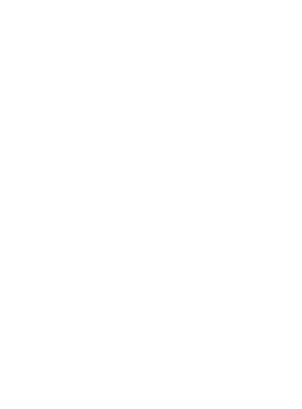
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
Частью какого произведения Вермеера является эта деталь?
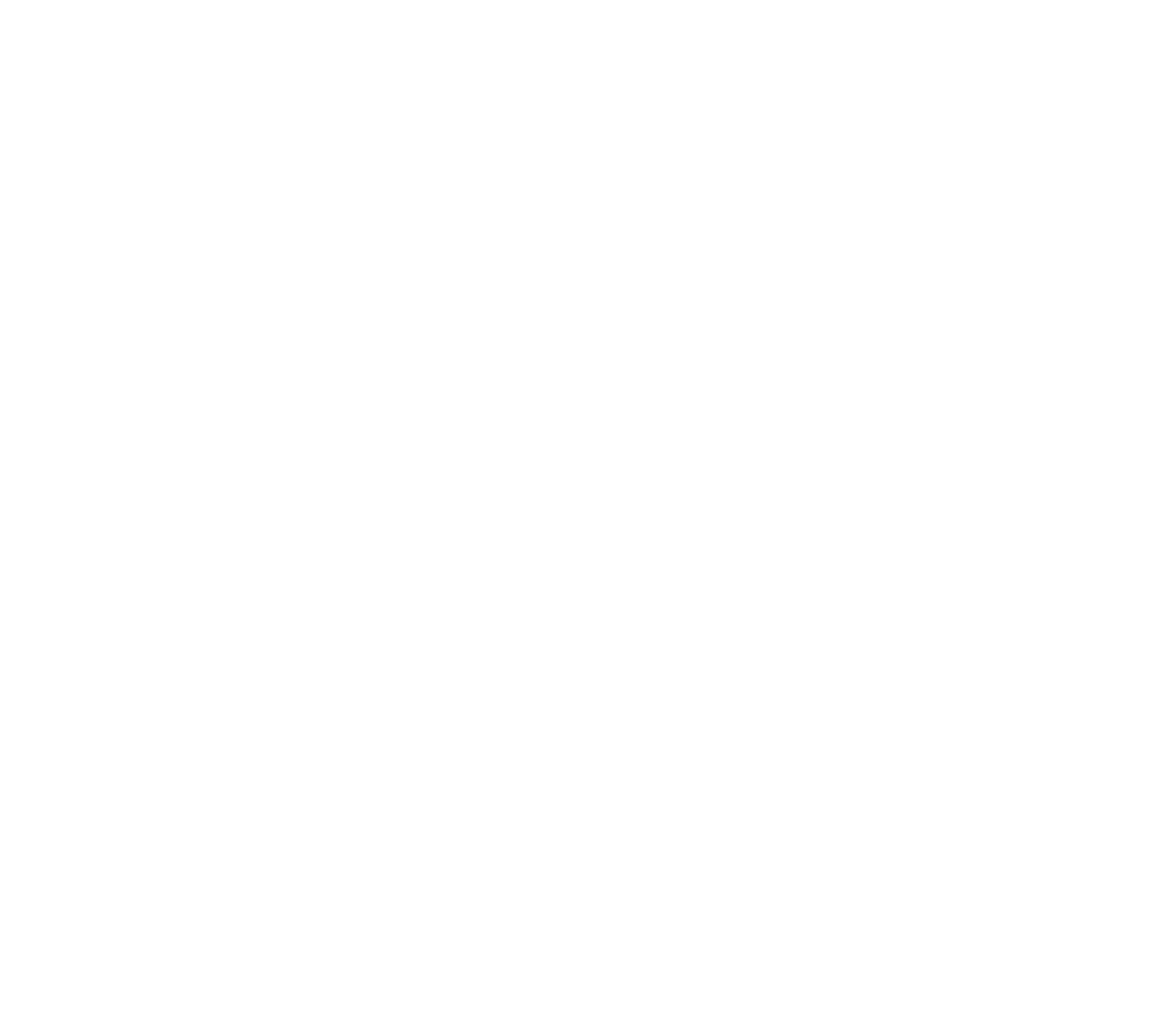
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А из какой картины этот фрагмент?
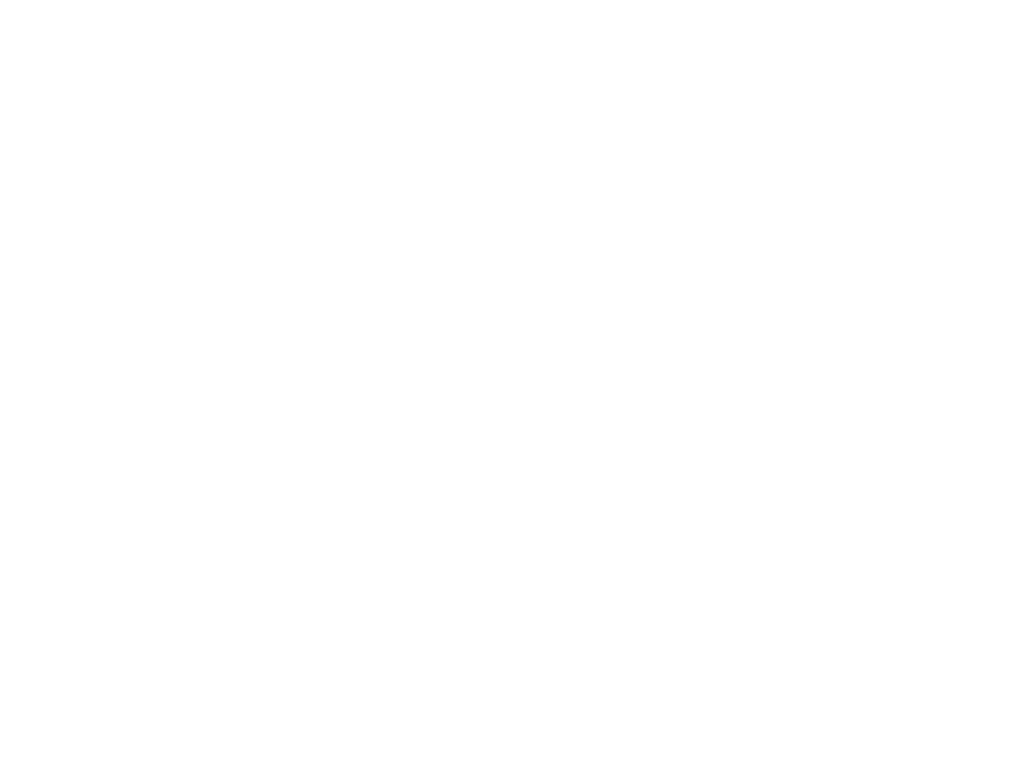
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В каком известном произведении Вермеера можно увидеть эту деталь?
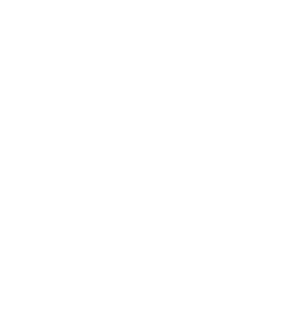
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А эту?
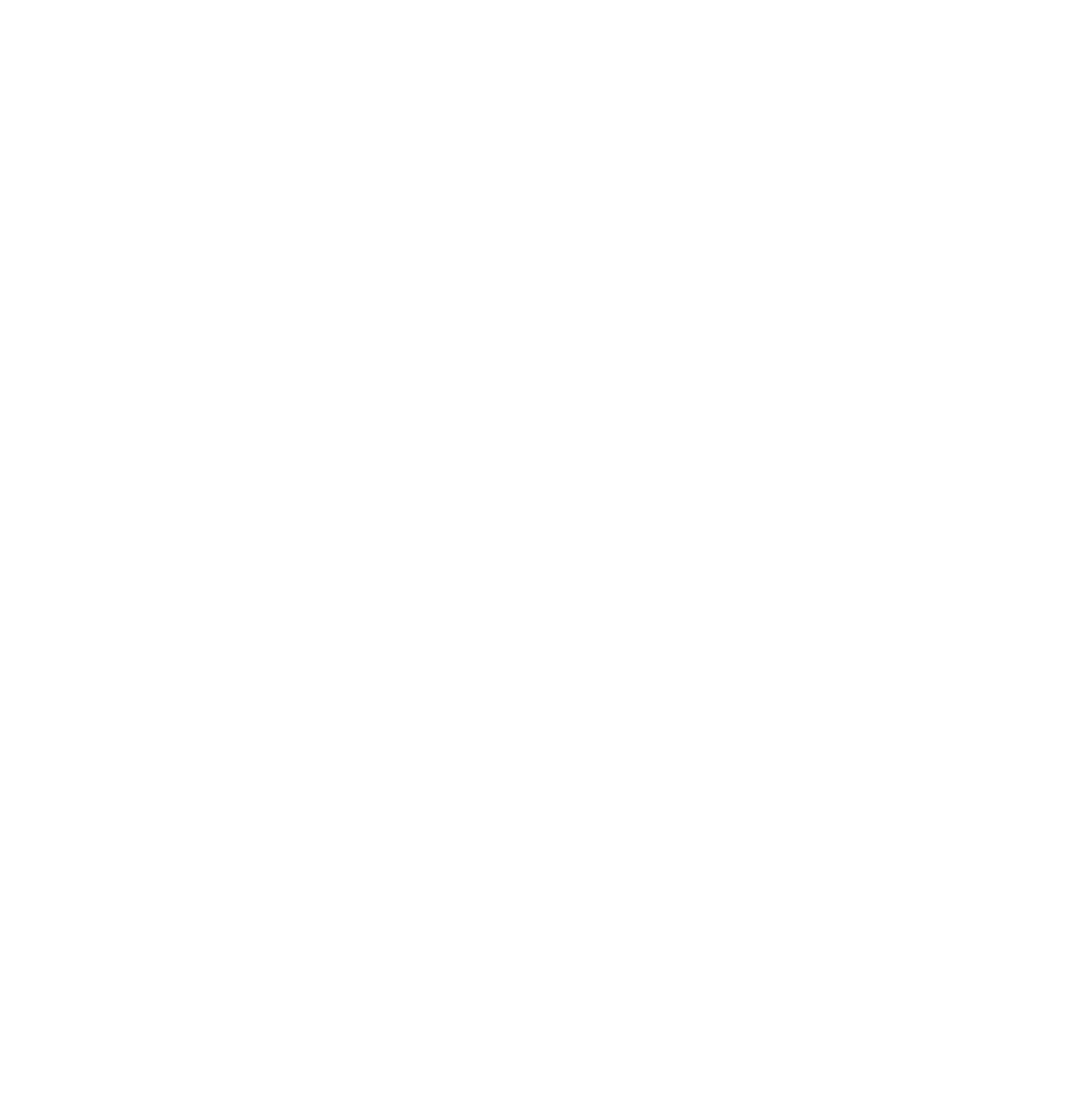
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А этот фрагмент из какой картины?
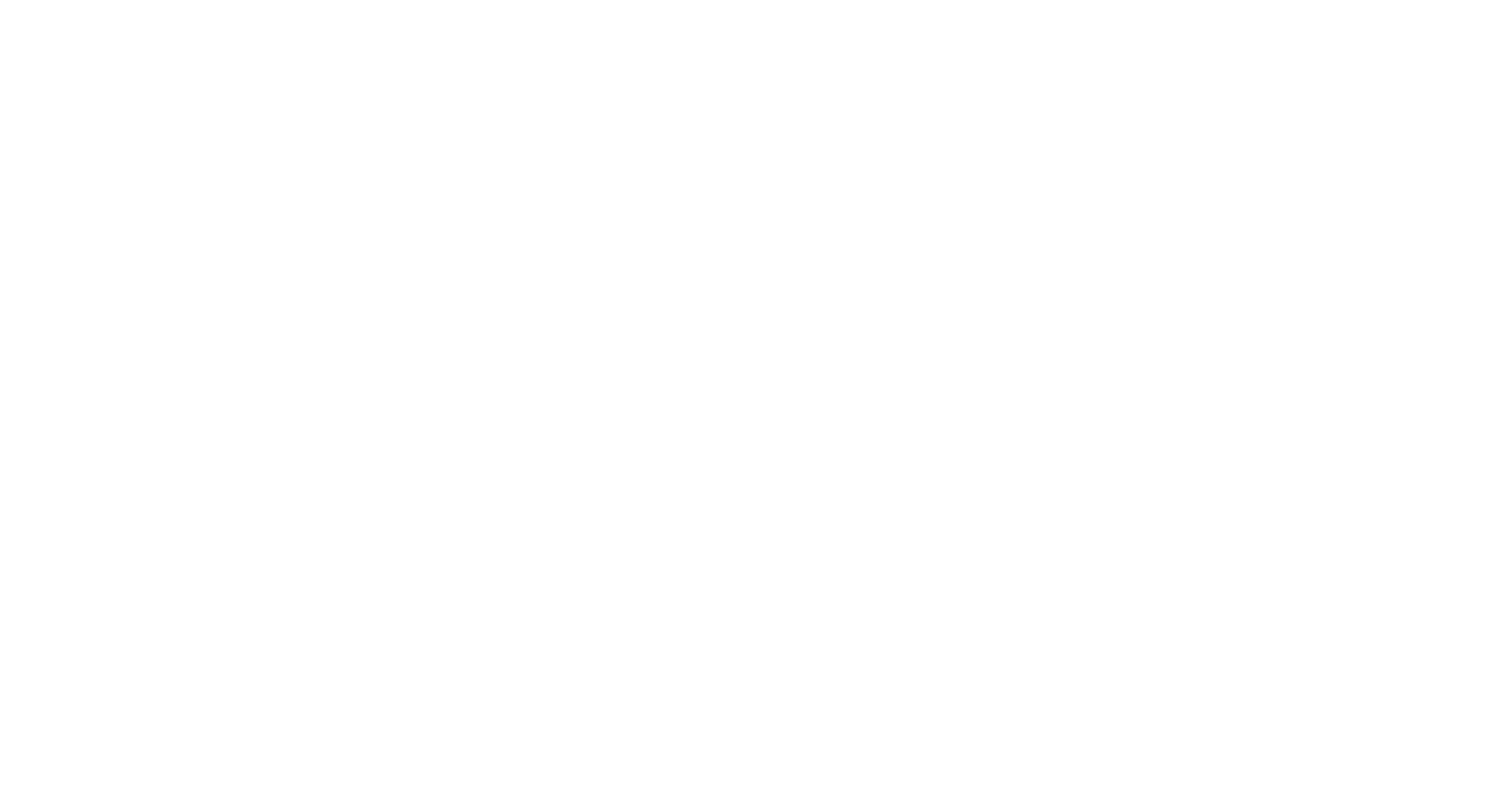
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
На какой картине Вермеера можно увидеть эту карту?
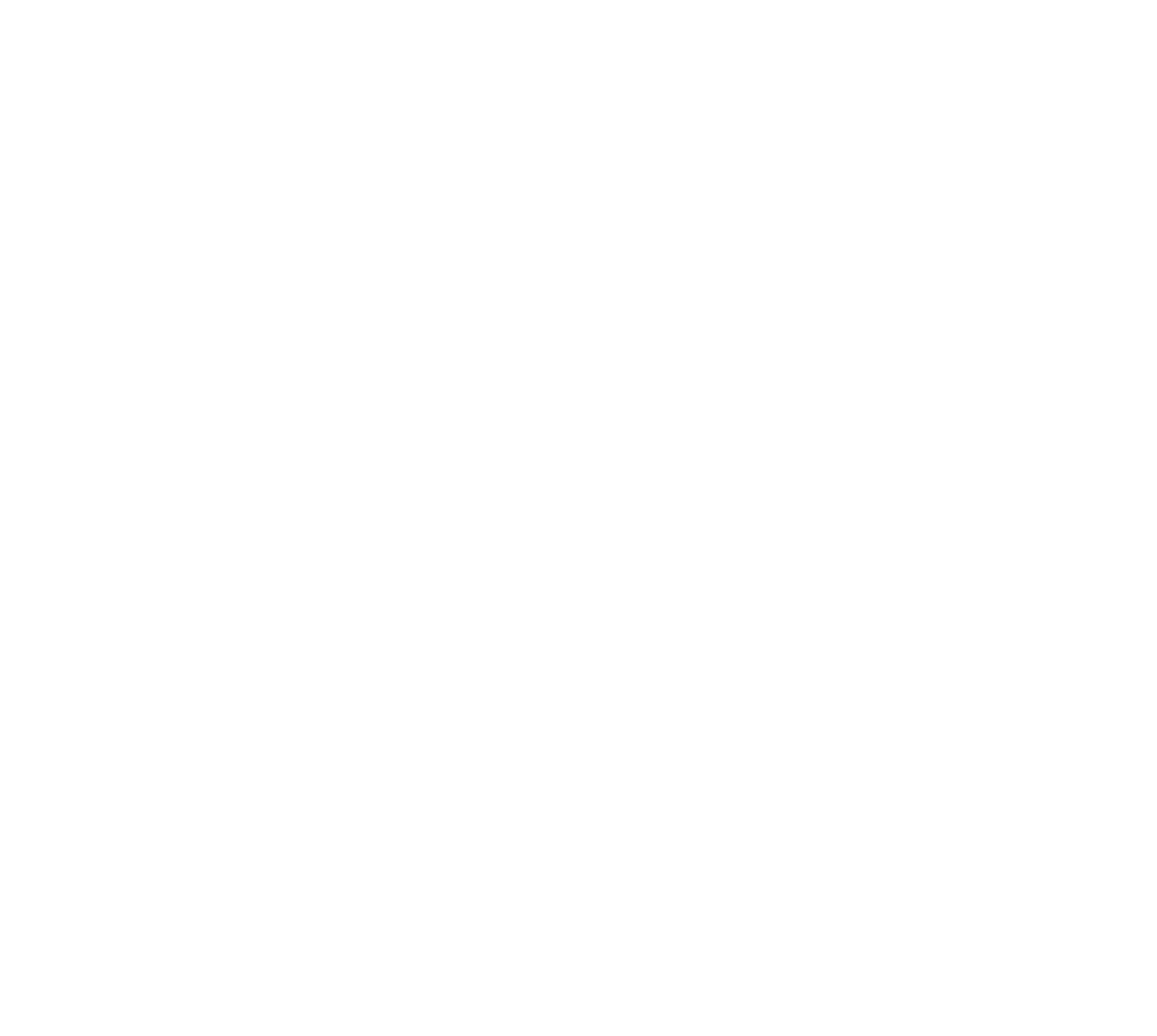
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
А в каком произведении на стене висит эта картина?
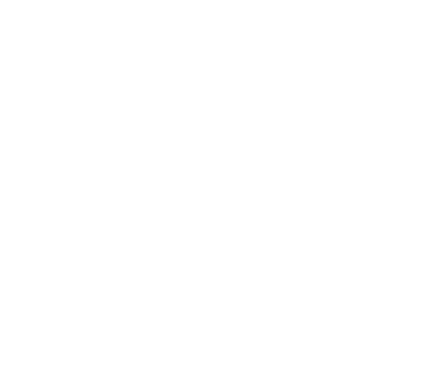
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
В каком известном произведении Вермеера можно увидеть эту деталь?
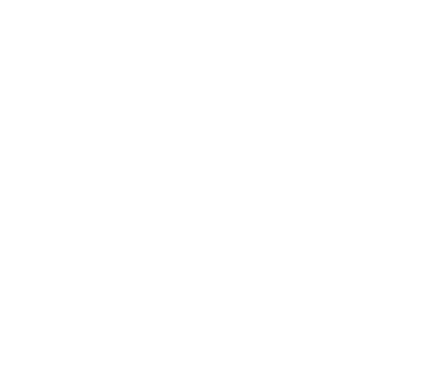
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
У какого персонажа Вермеера на шкафу стоит этот предмет?
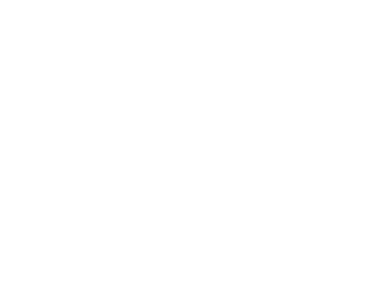
| Дальше |
| Проверить |
| Узнать результат |
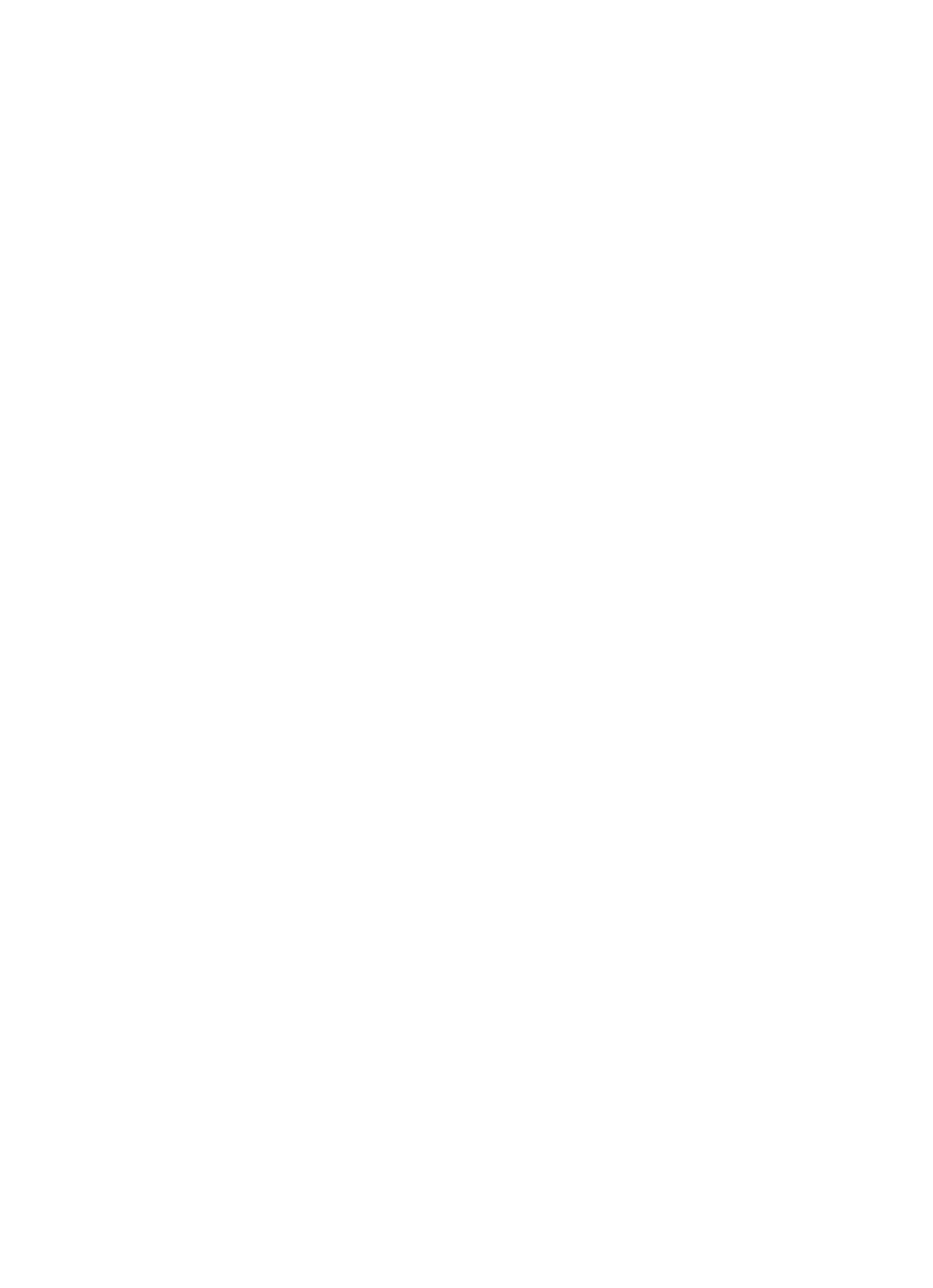
Ой…
Но не стоит расстраиваться! На нашем сайте вы можете продолжить знакомство с миром искусства.
| Пройти еще раз |
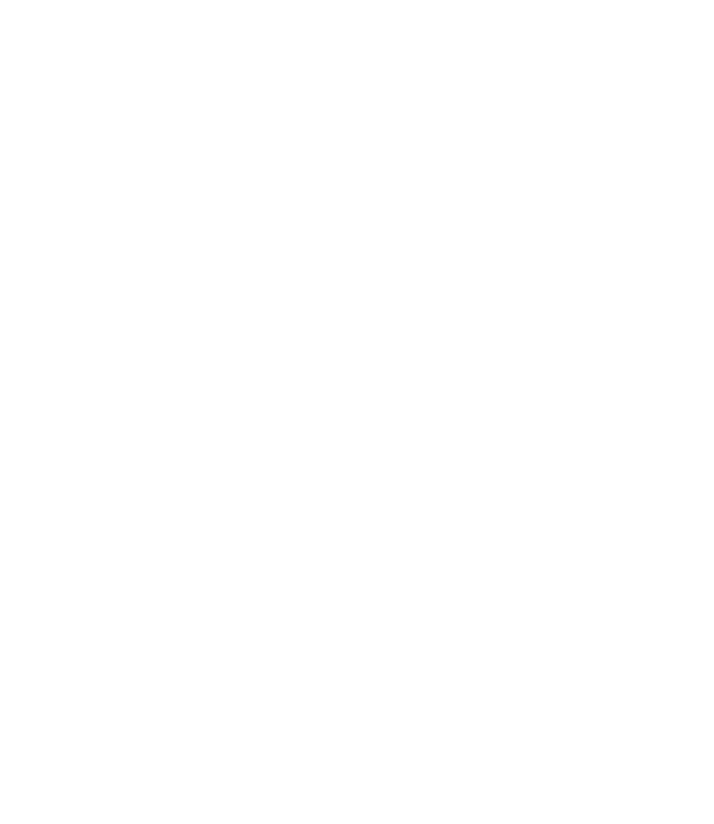
Неплохо!
Ошибок многовато, но очевидно, что вы искренне любите искусство.
| Пройти еще раз |
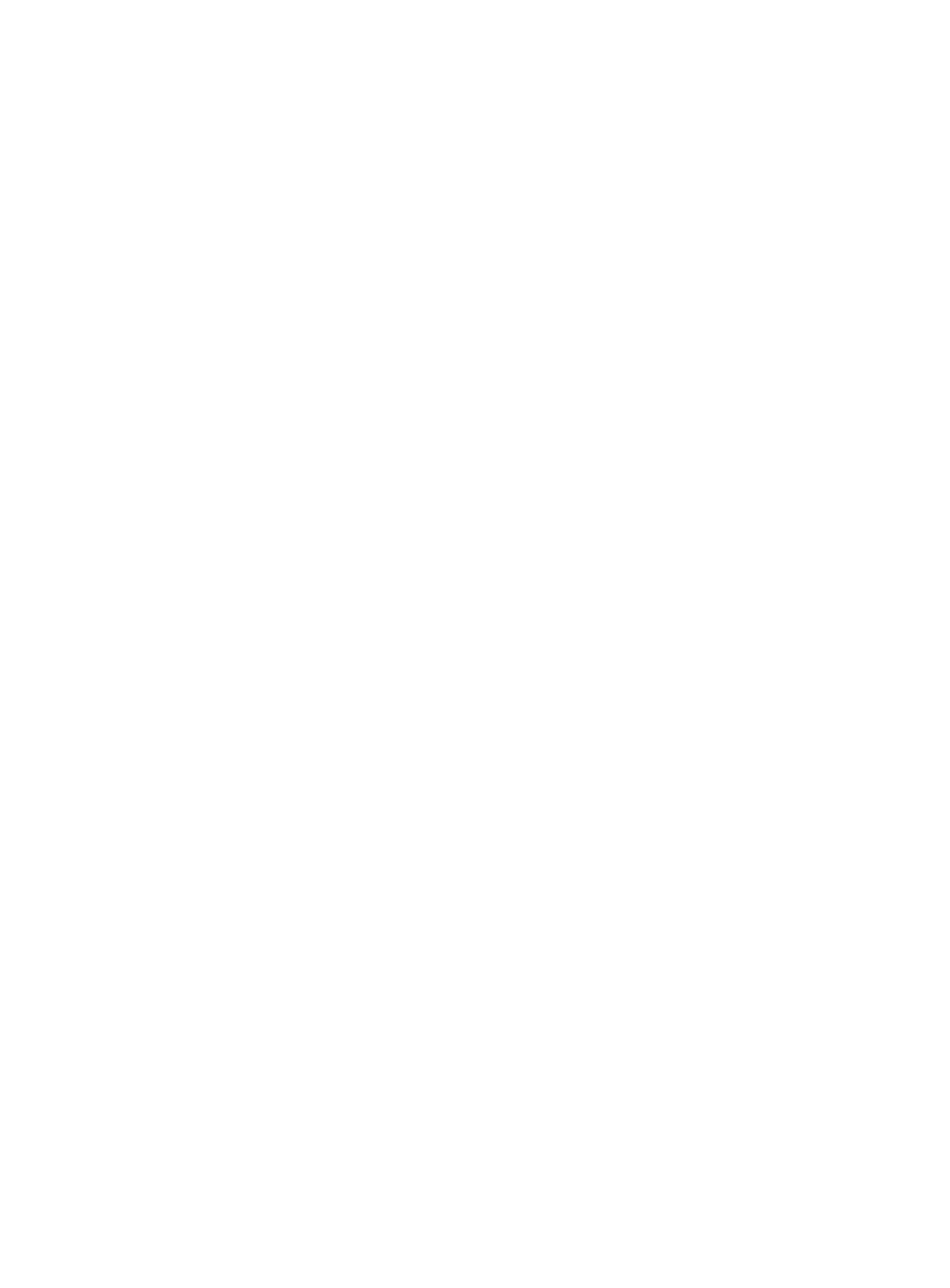
Хорошо!
Да, это была нелёгкая задача угадать названия произведений. Не все удалось «опознать», но больше половины правильных ответов – за вами.
| Пройти еще раз |
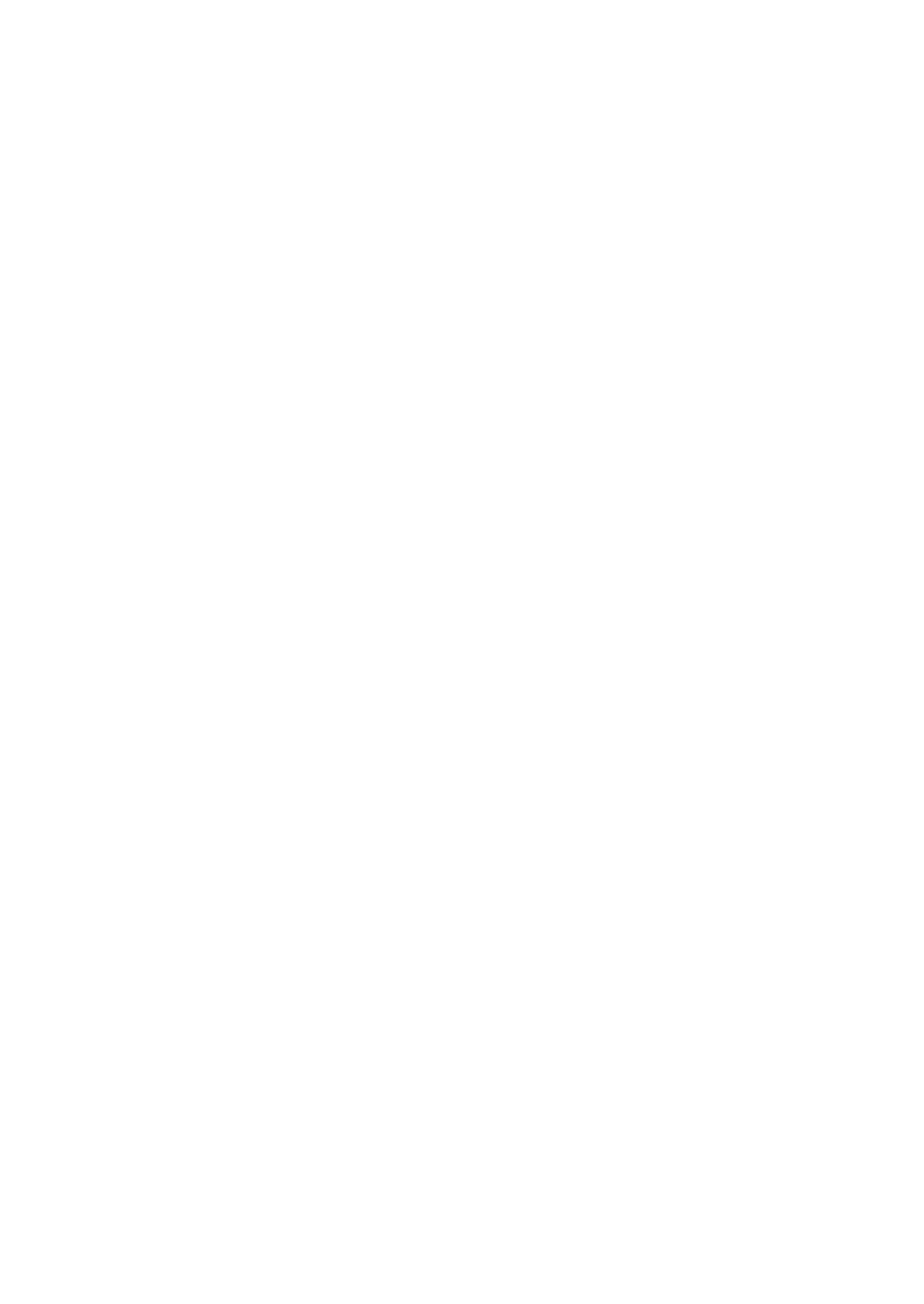
Блестяще!
Вы настоящий знаток творчества Вермеера! Ваши память и внимательность – поразительны! Примите наши поздравления, таких результатов добиваются немногие!
| Пройти еще раз |

Над выпуском работали:
Автор текста: В. Берницева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru