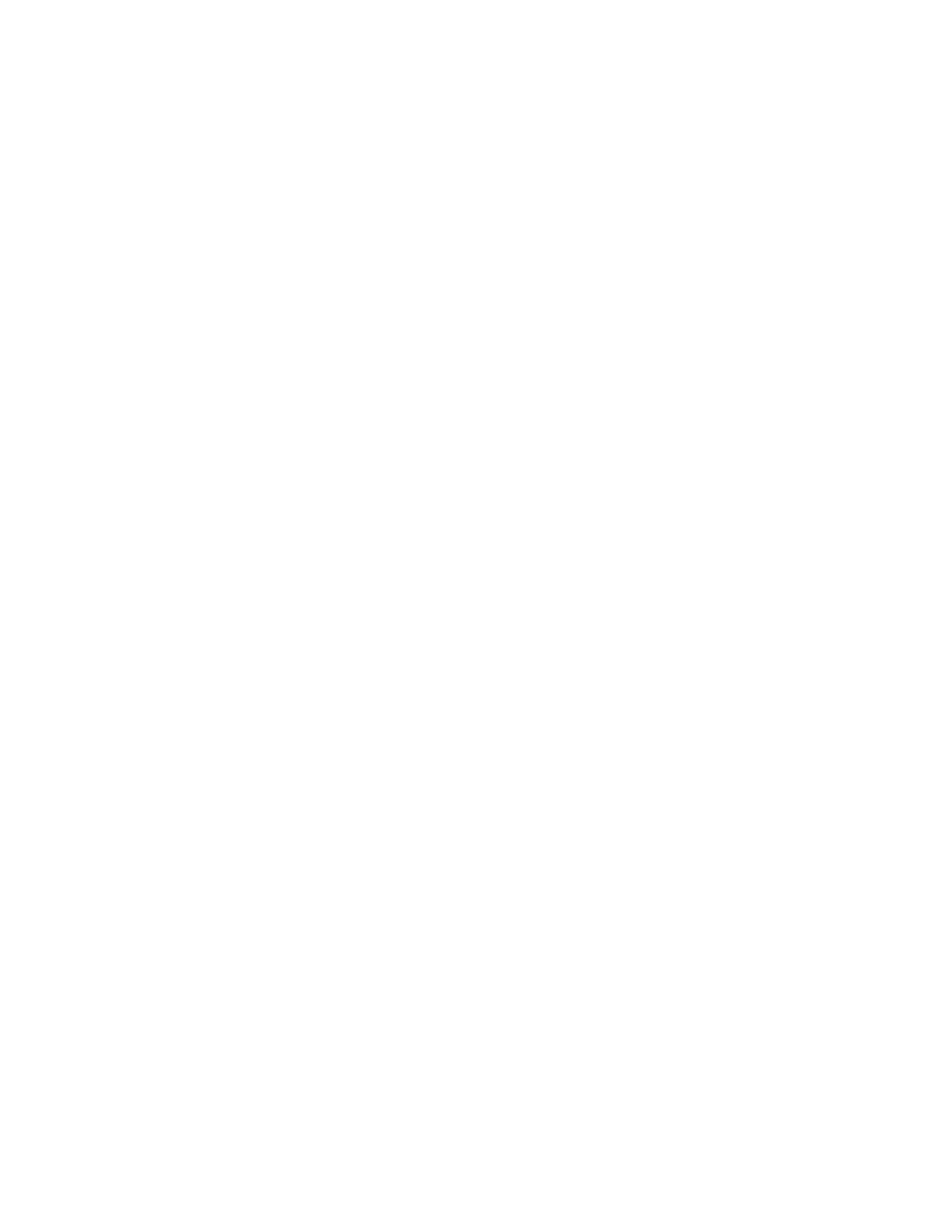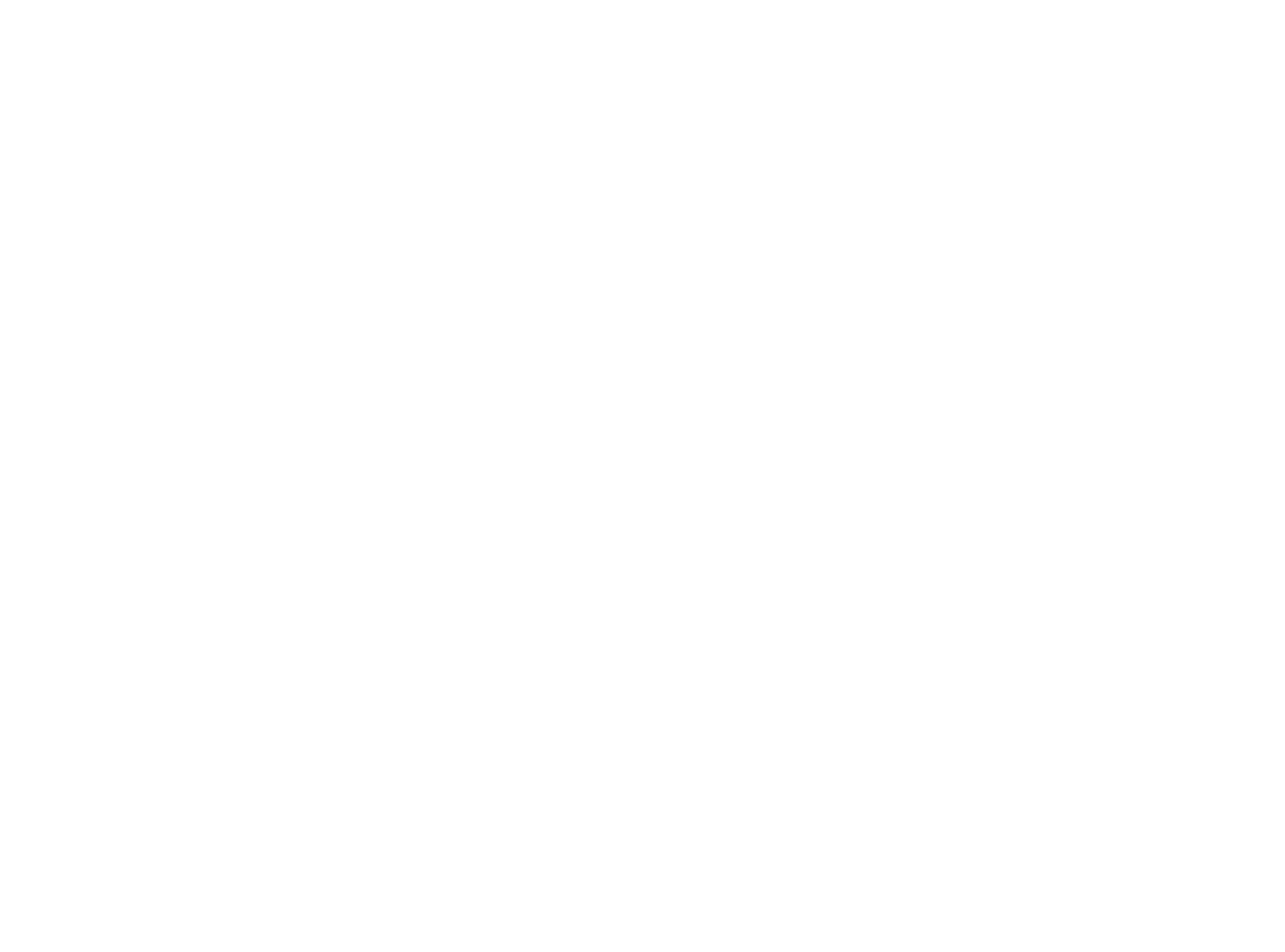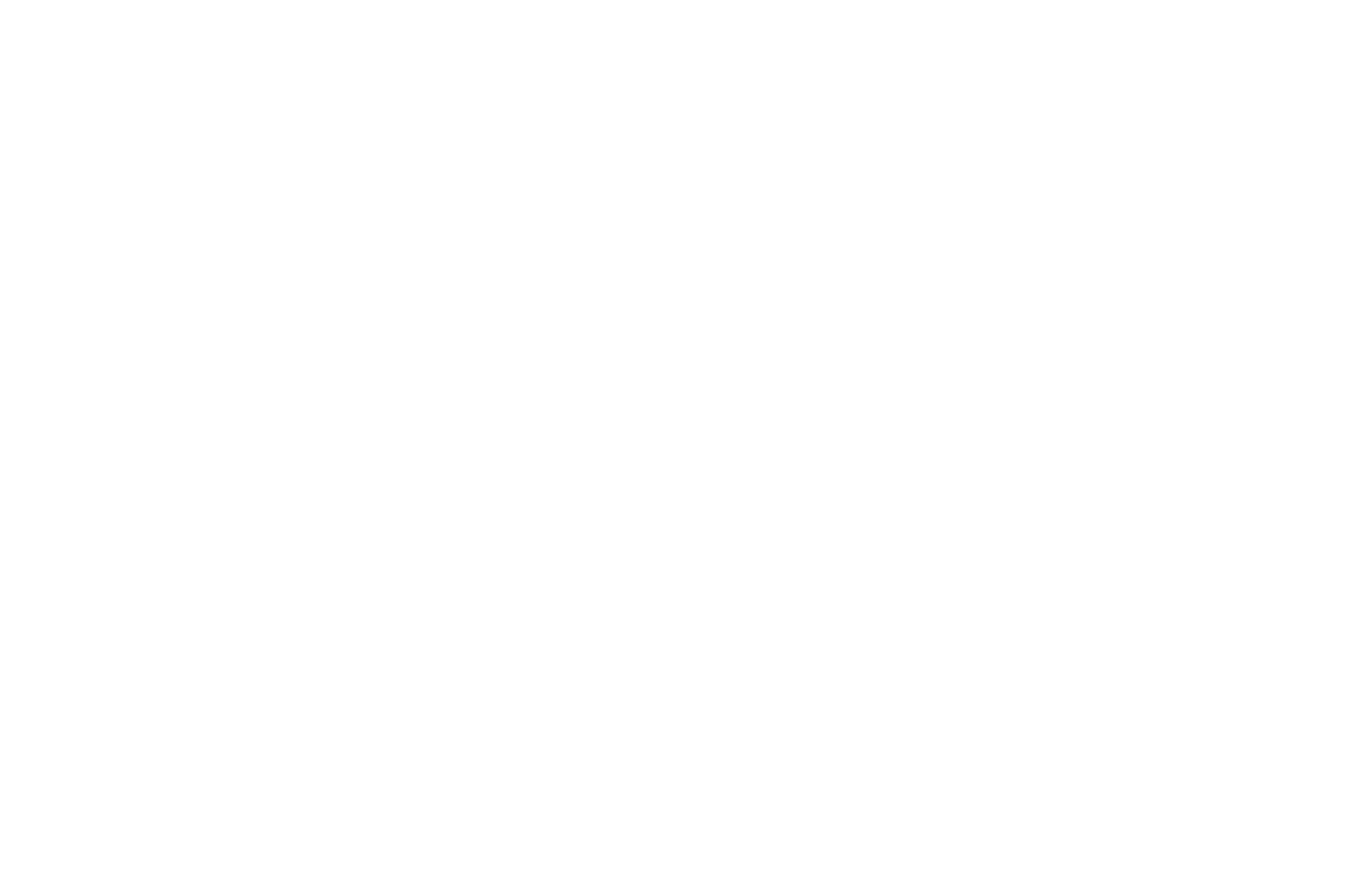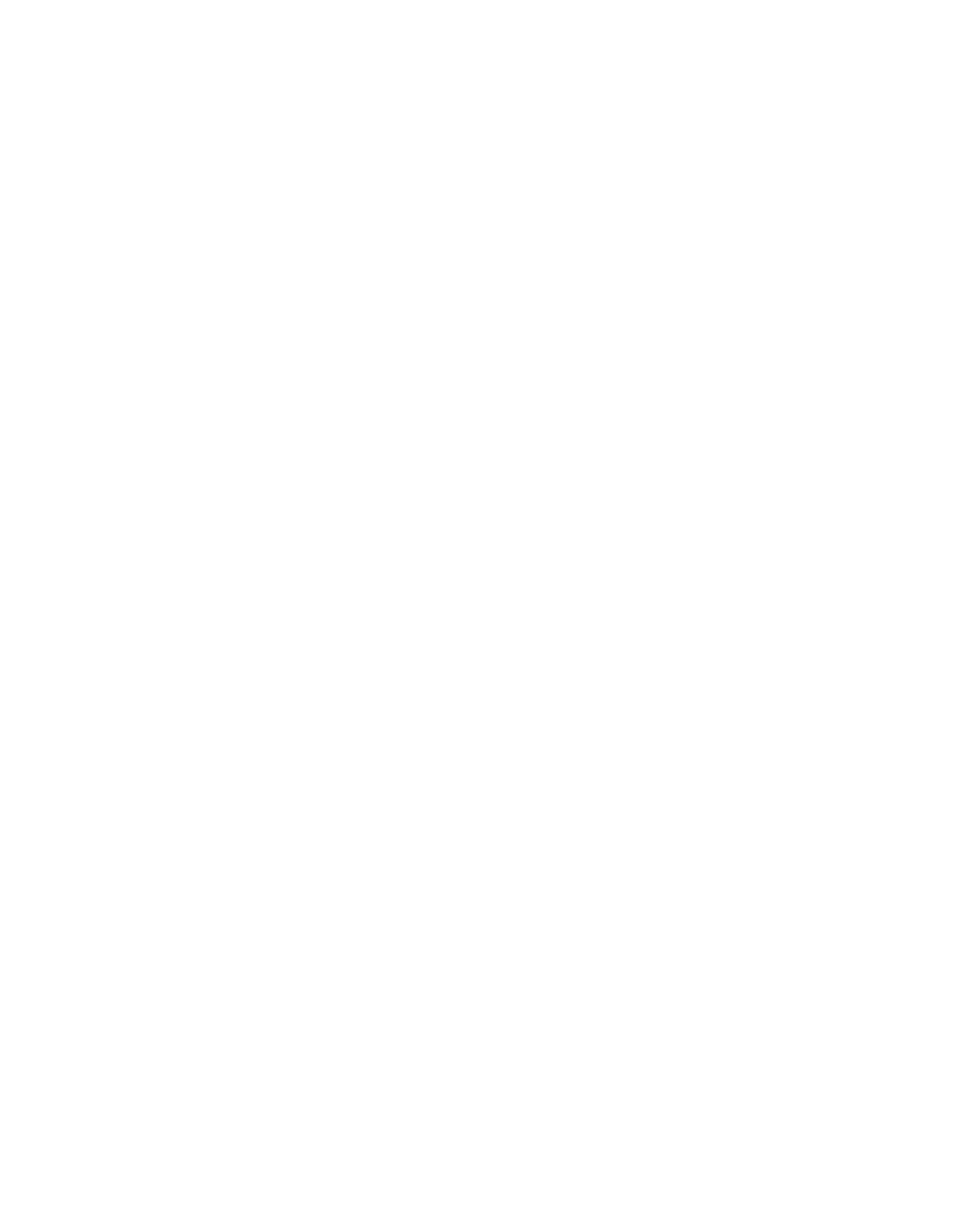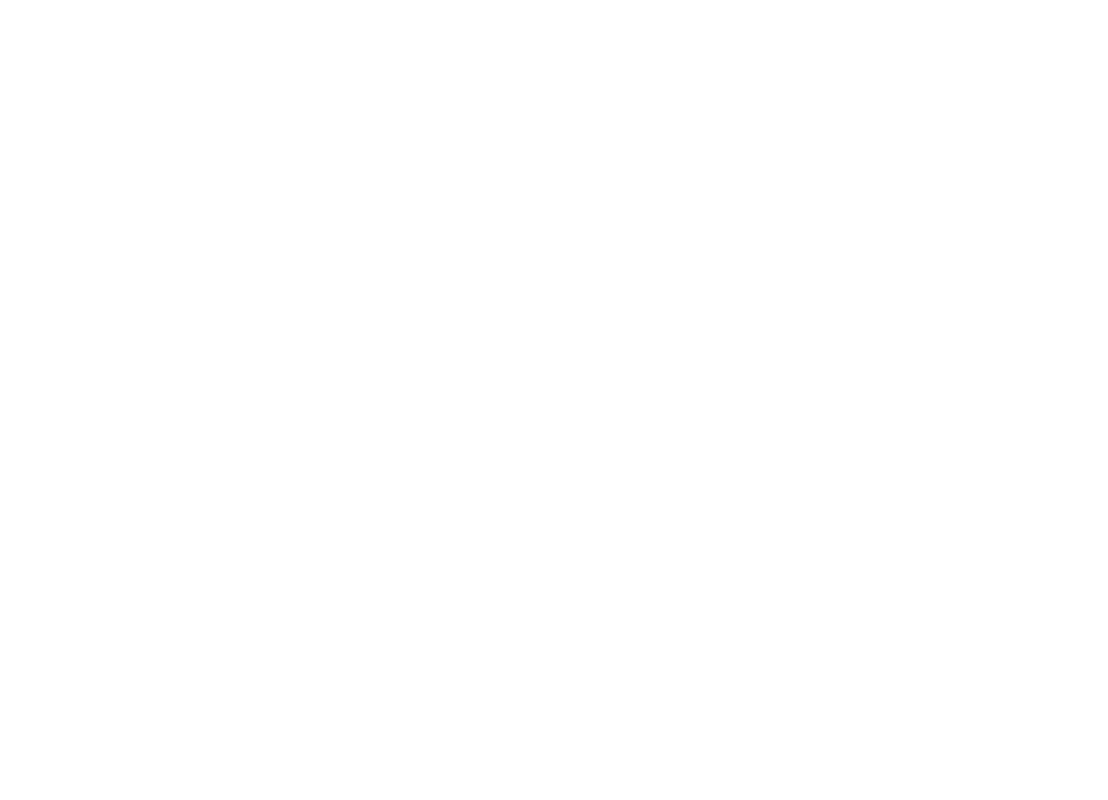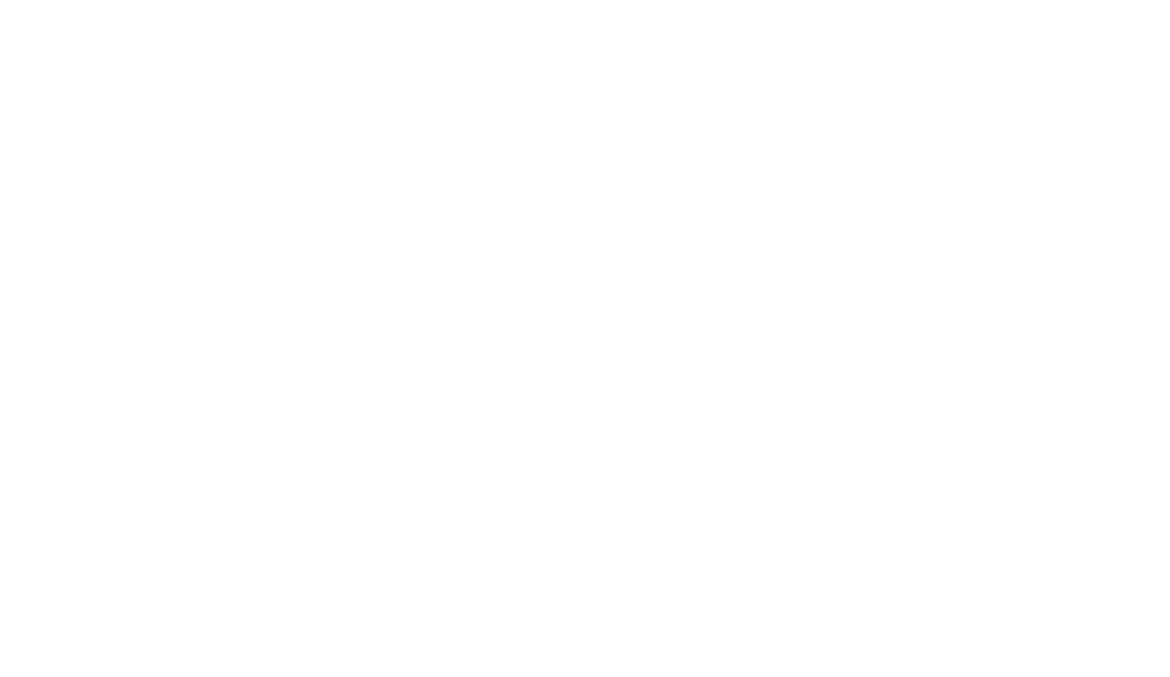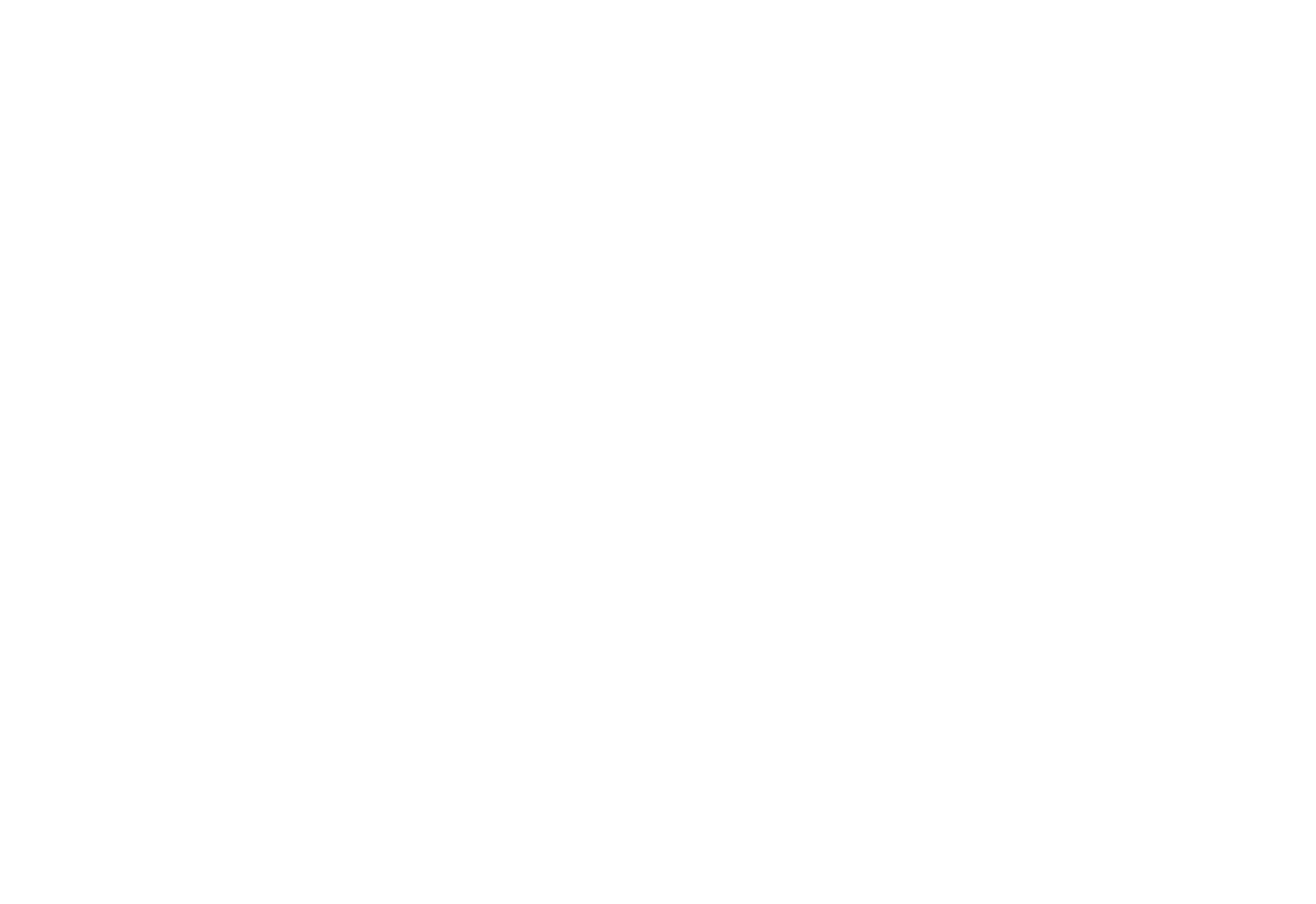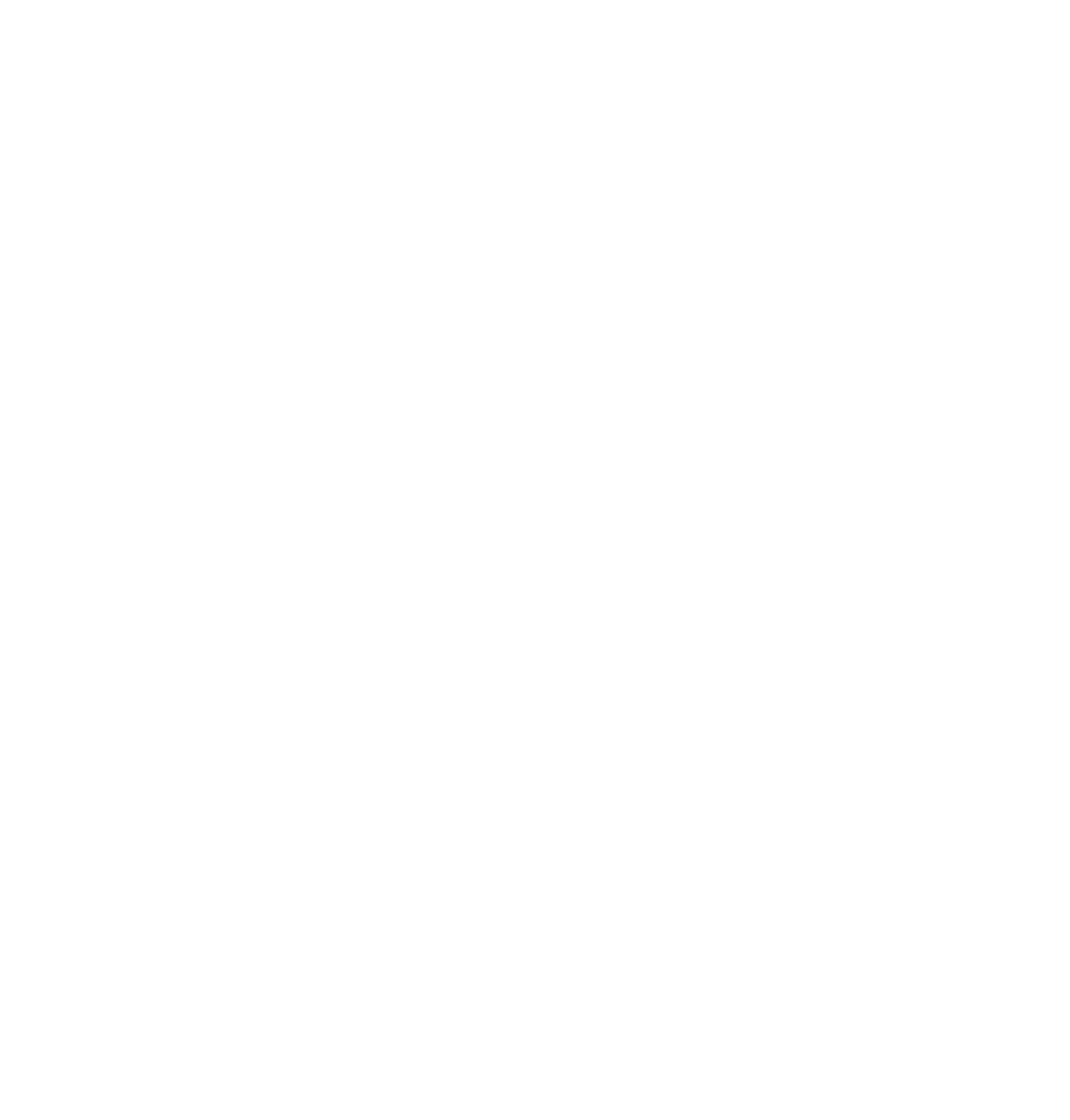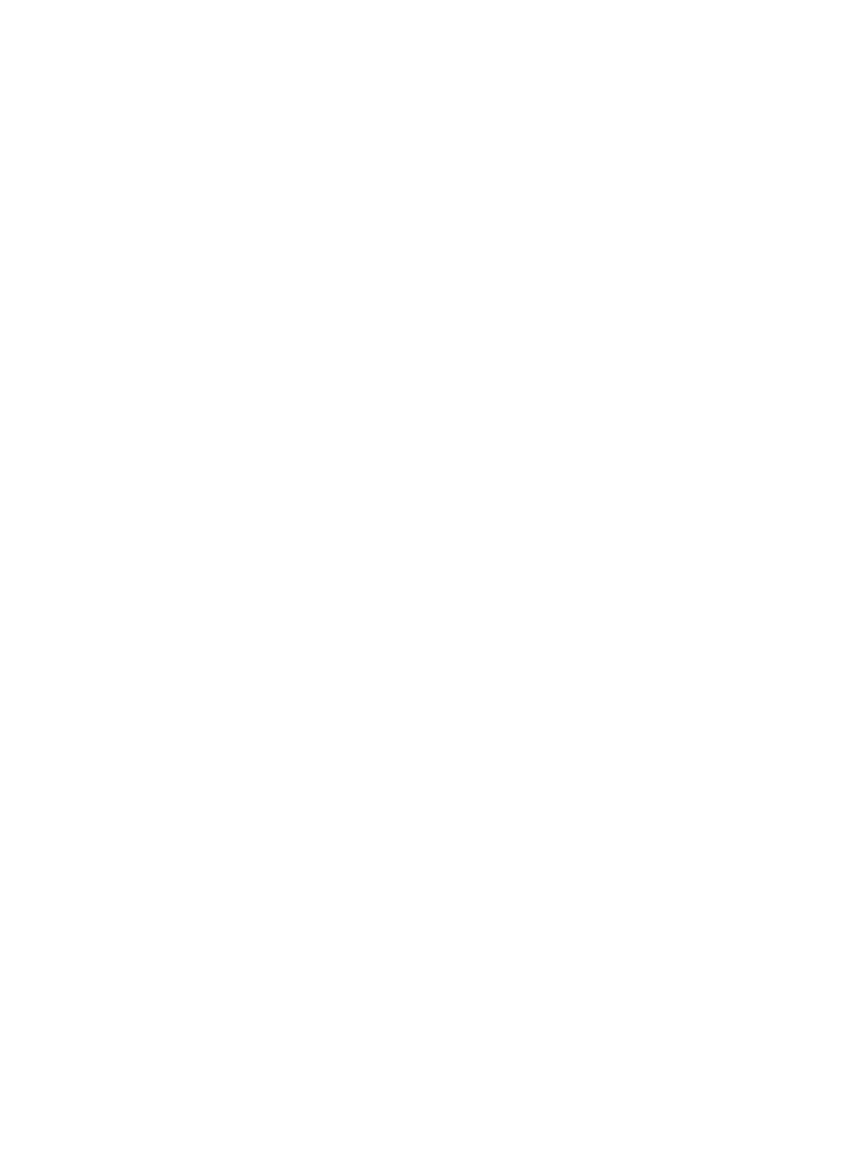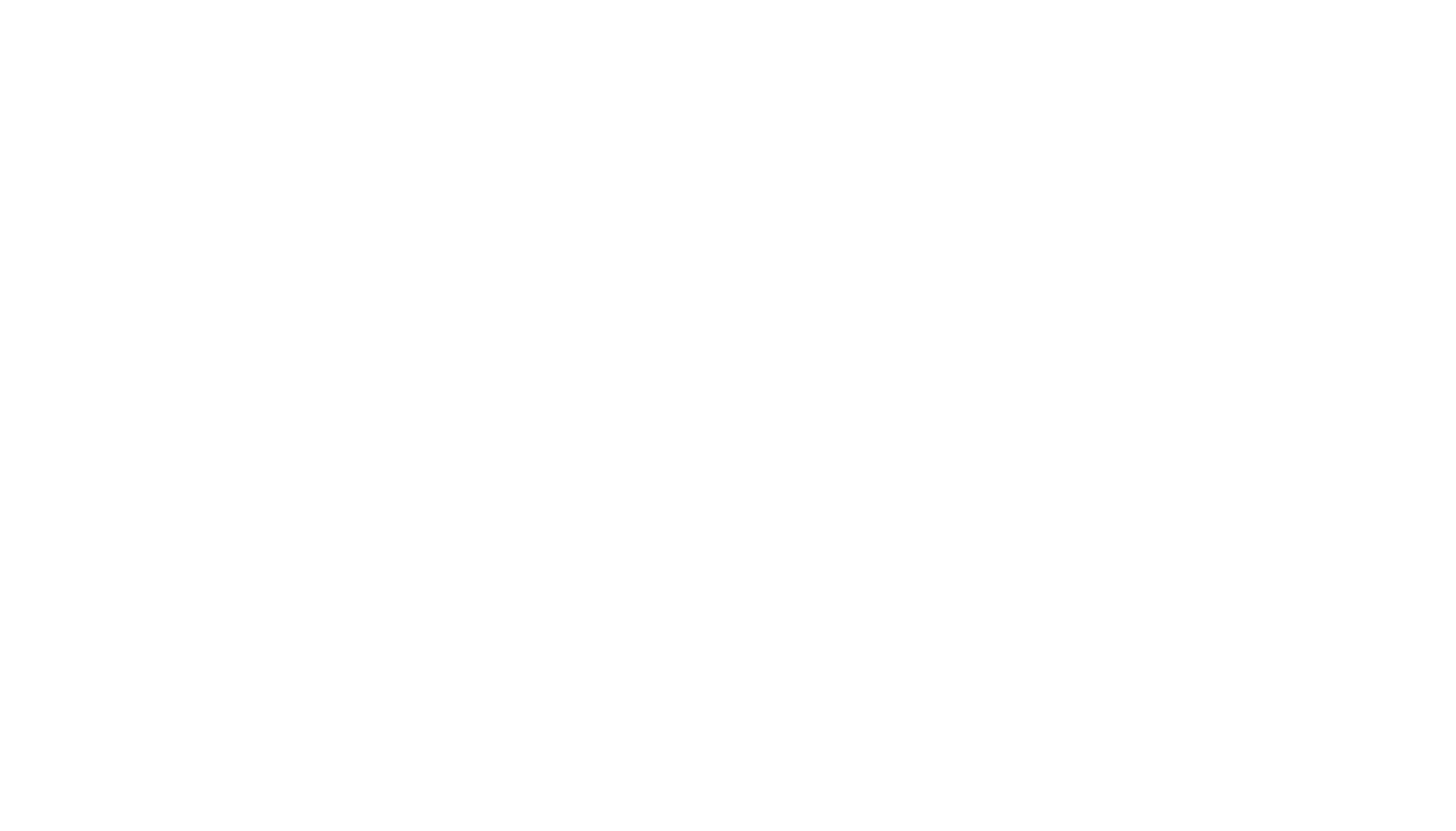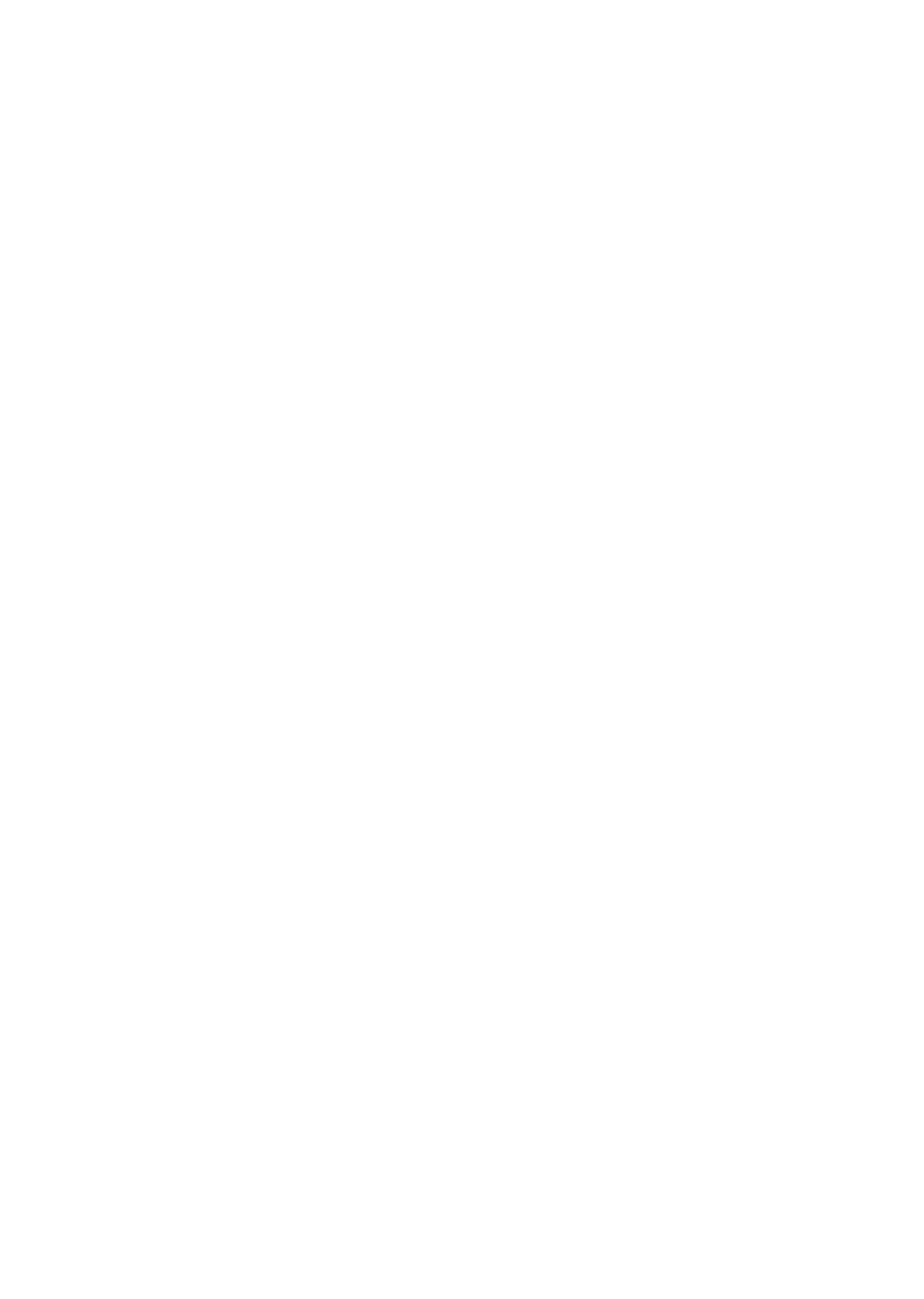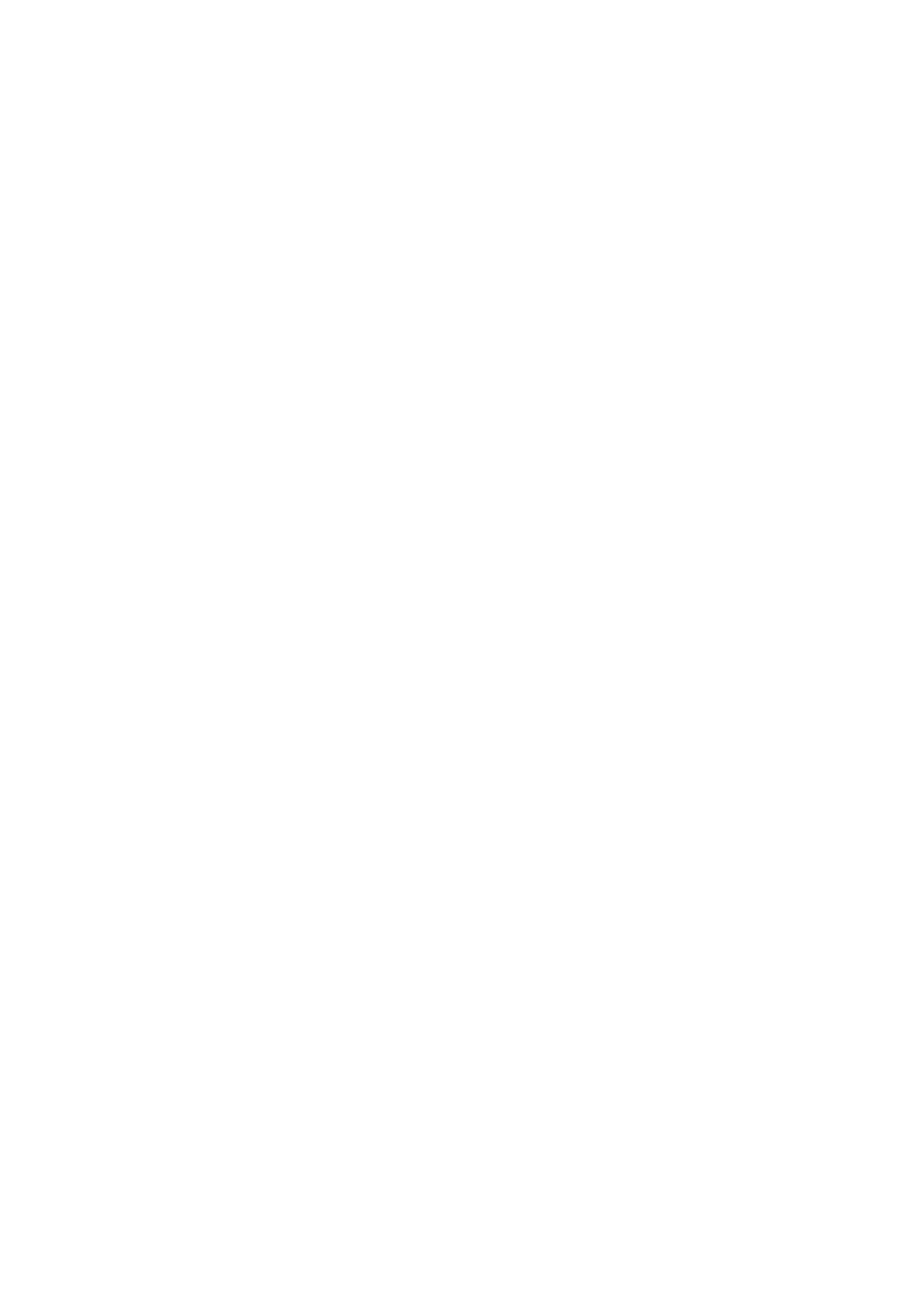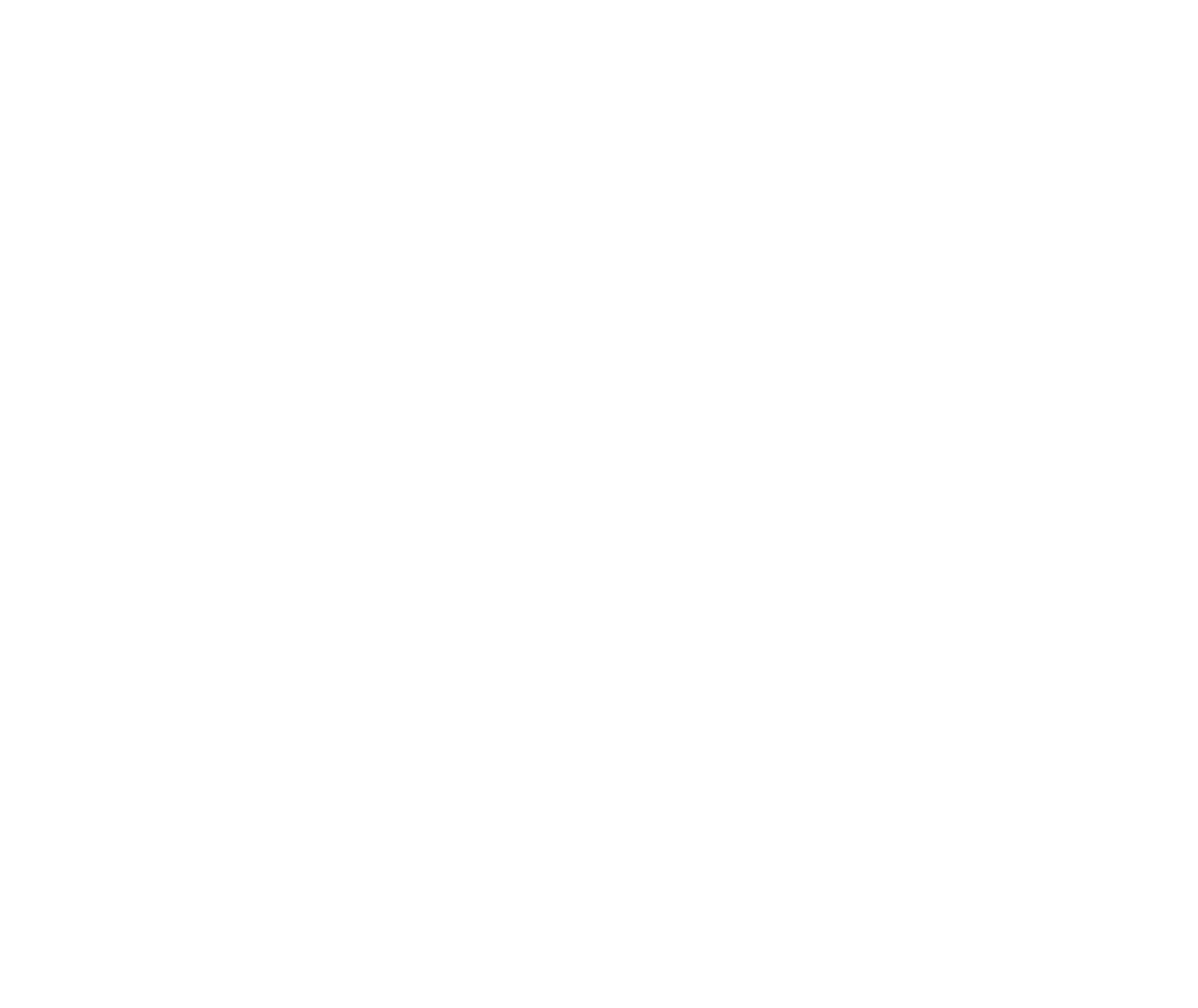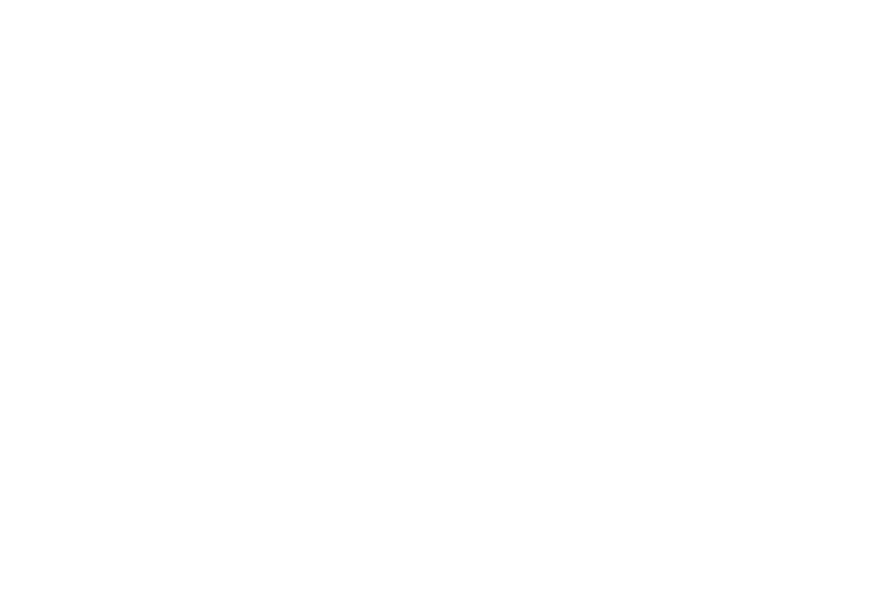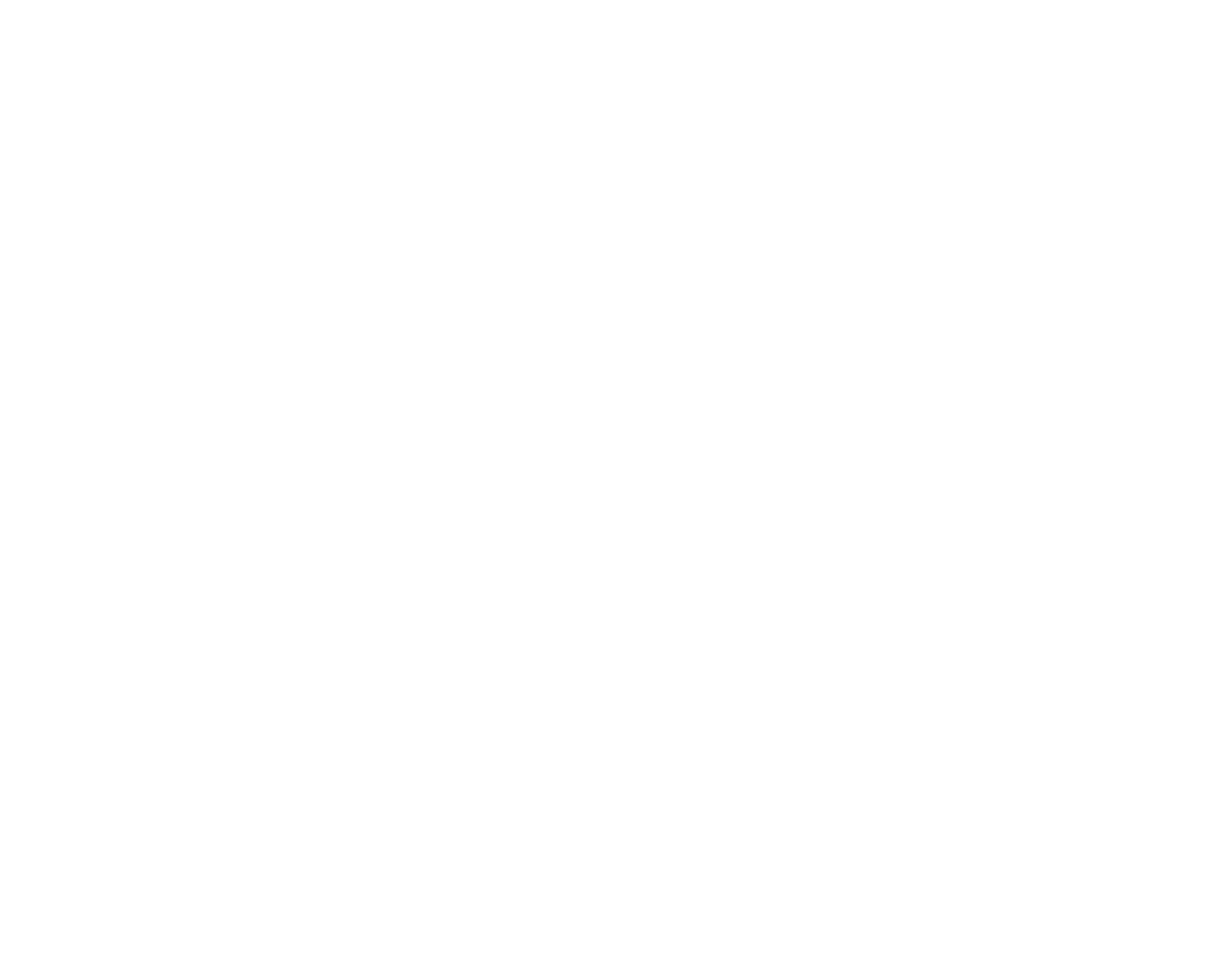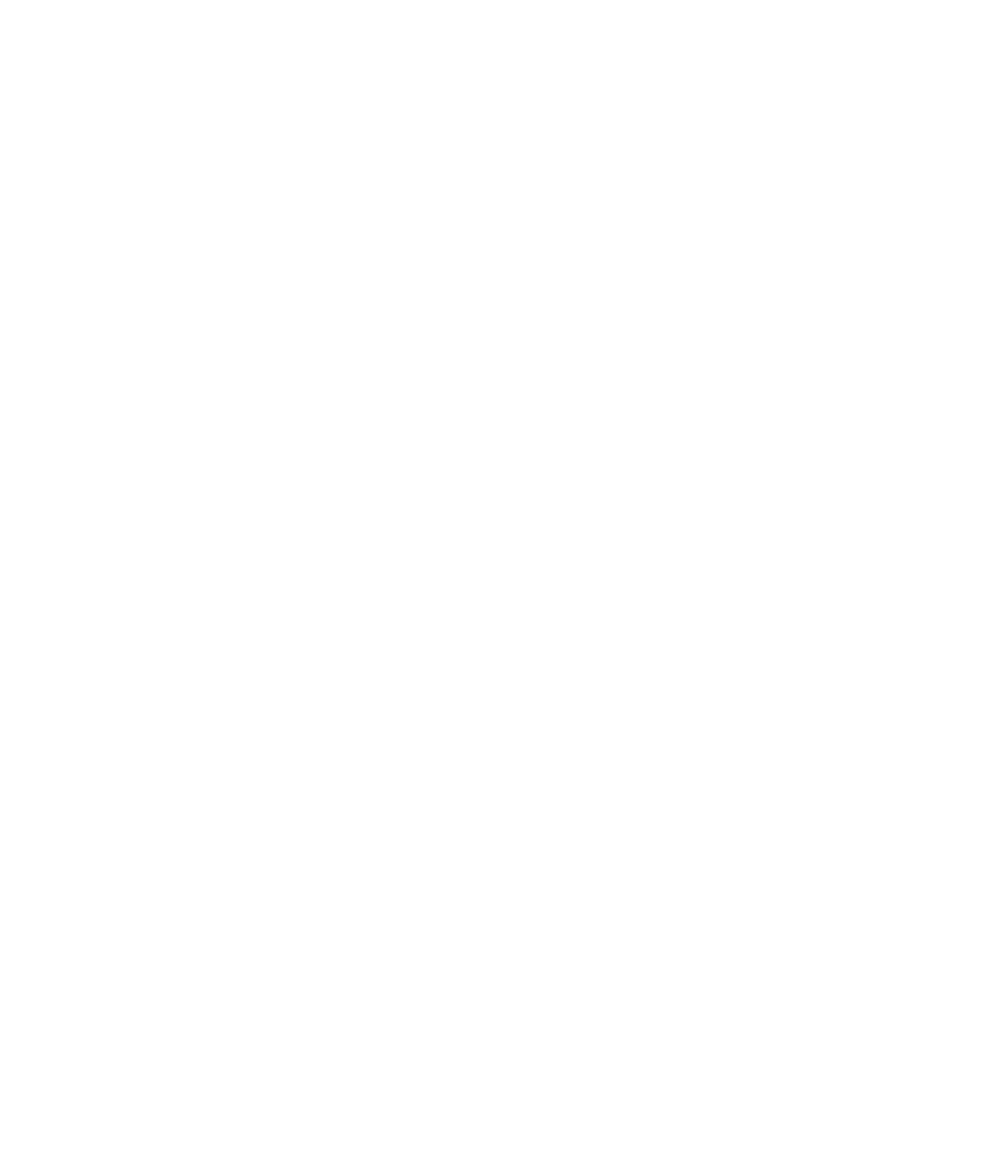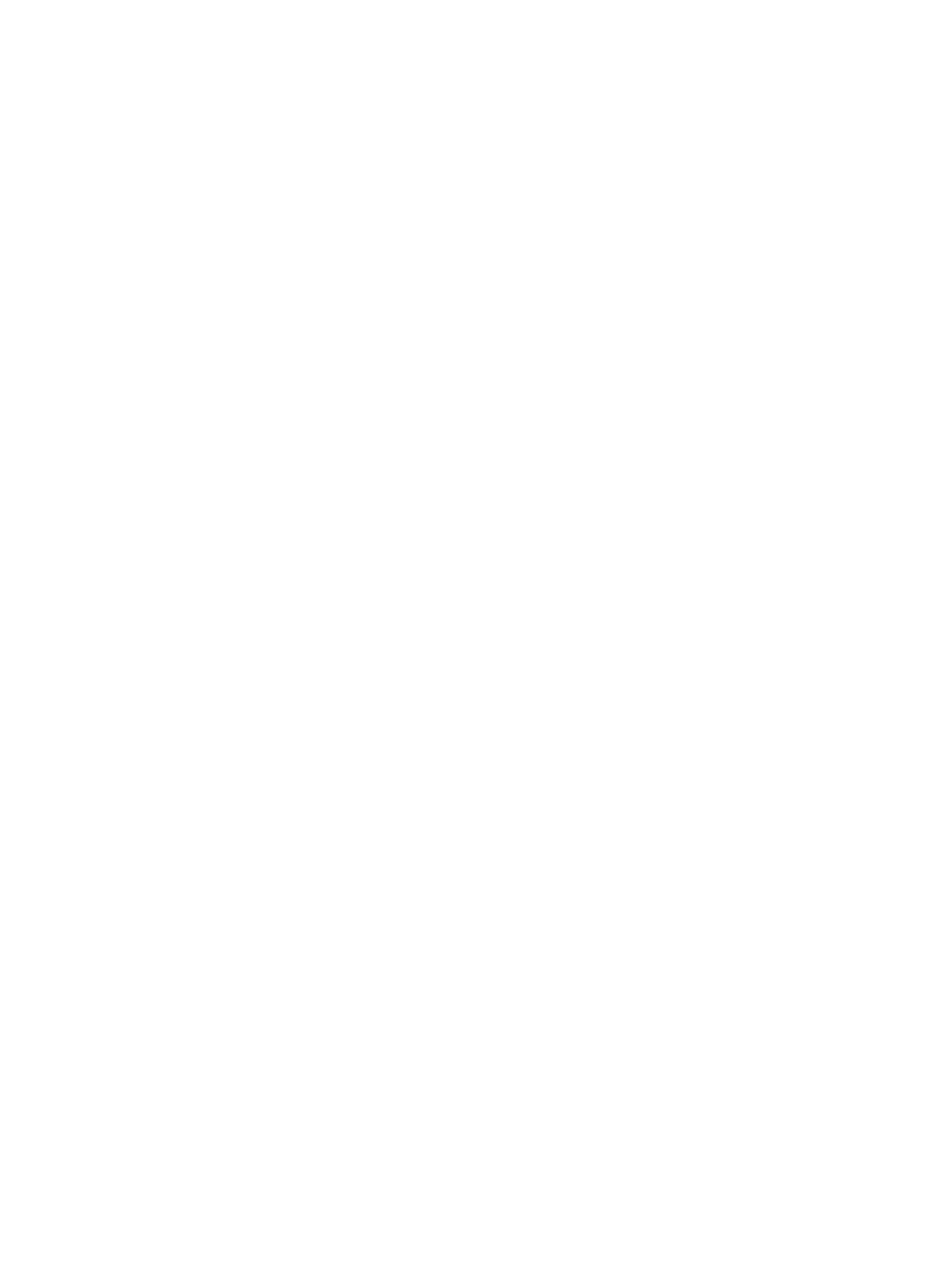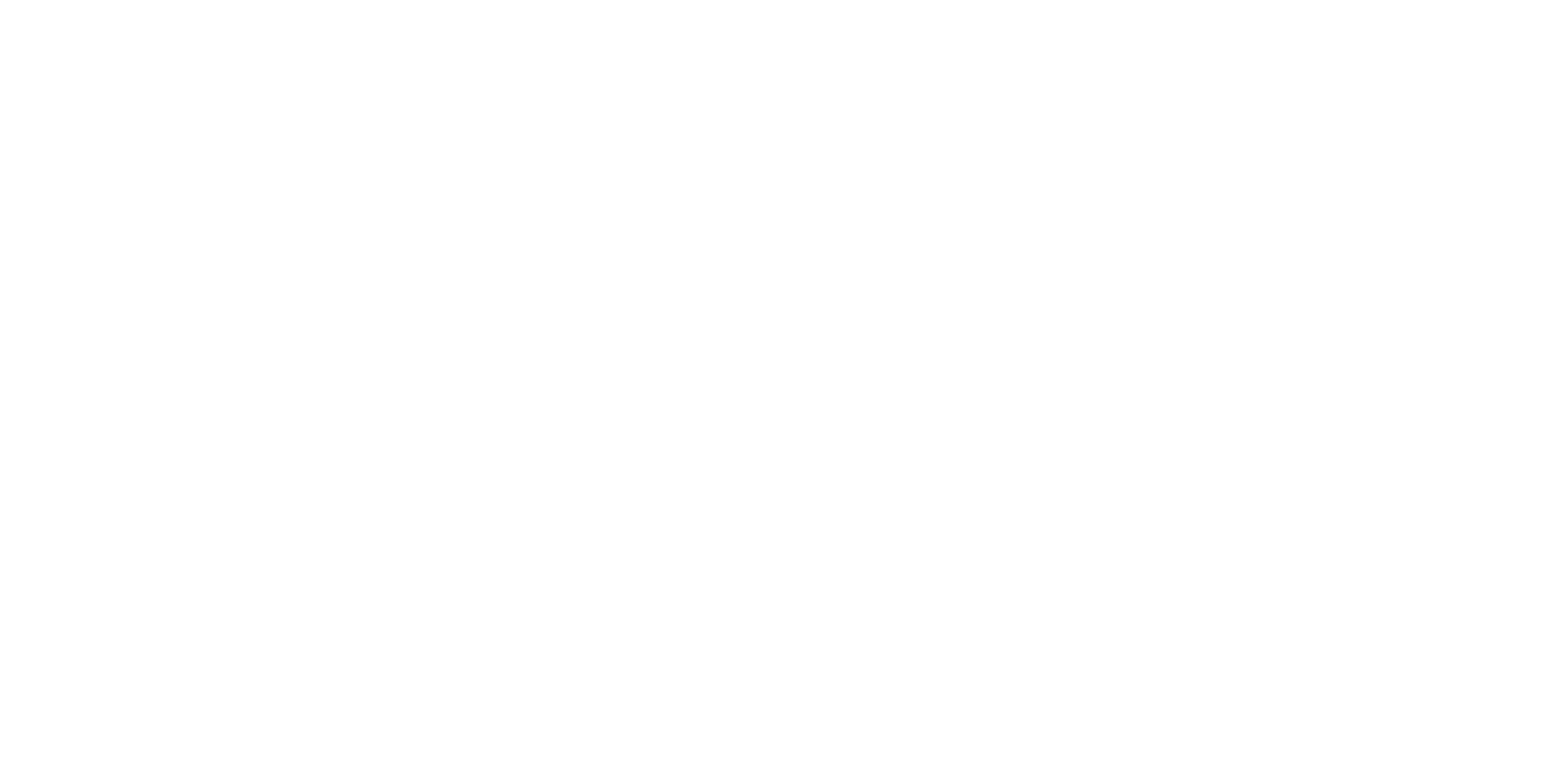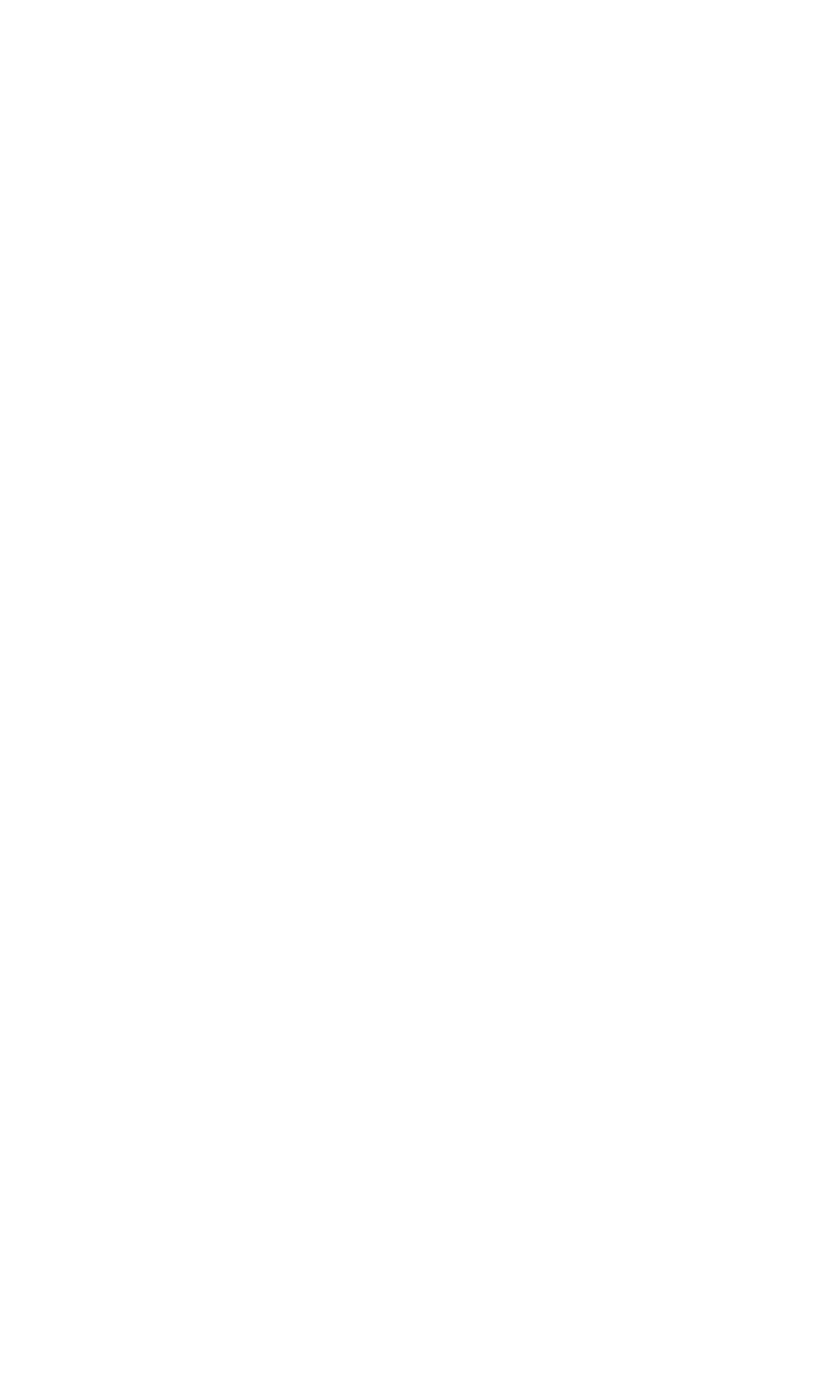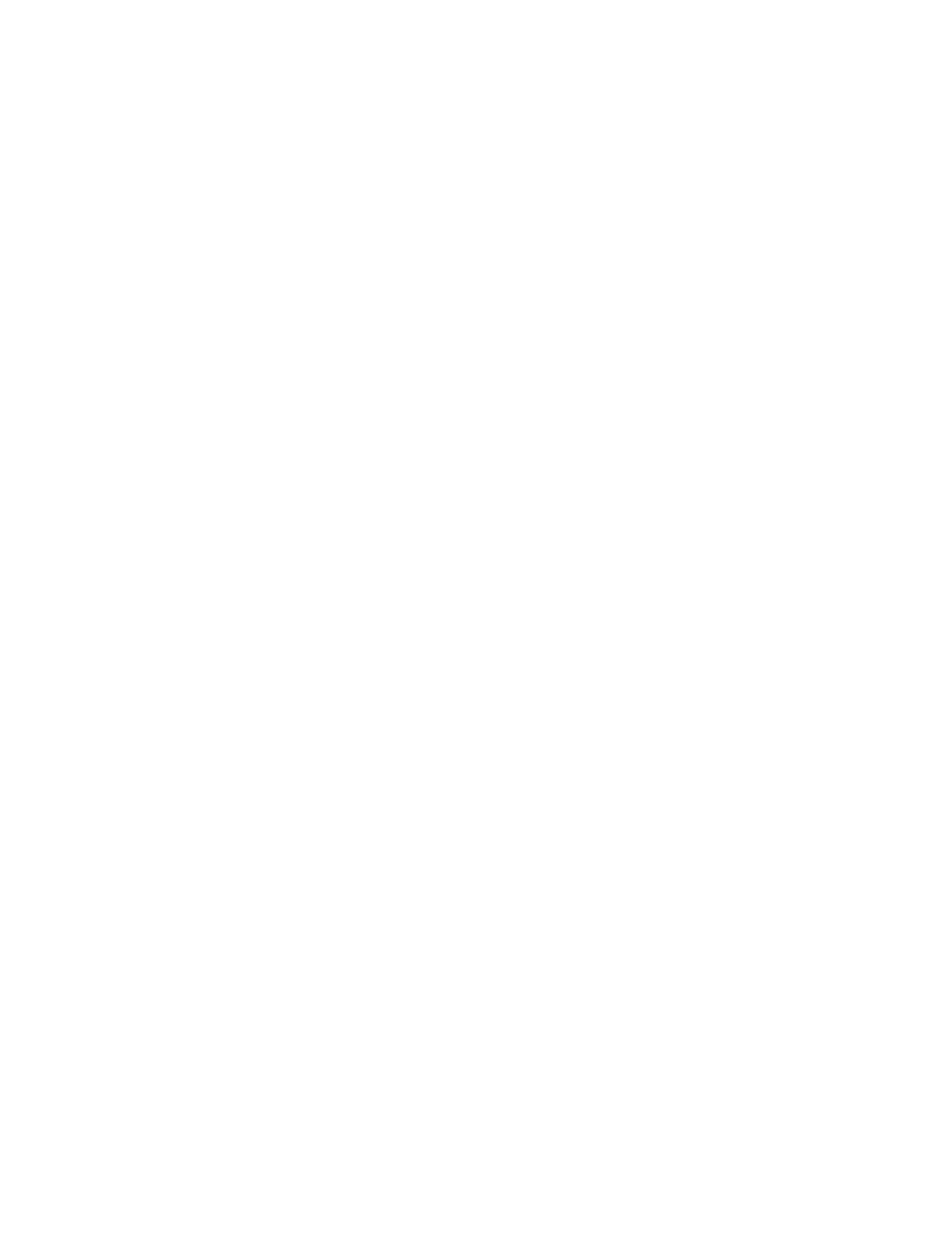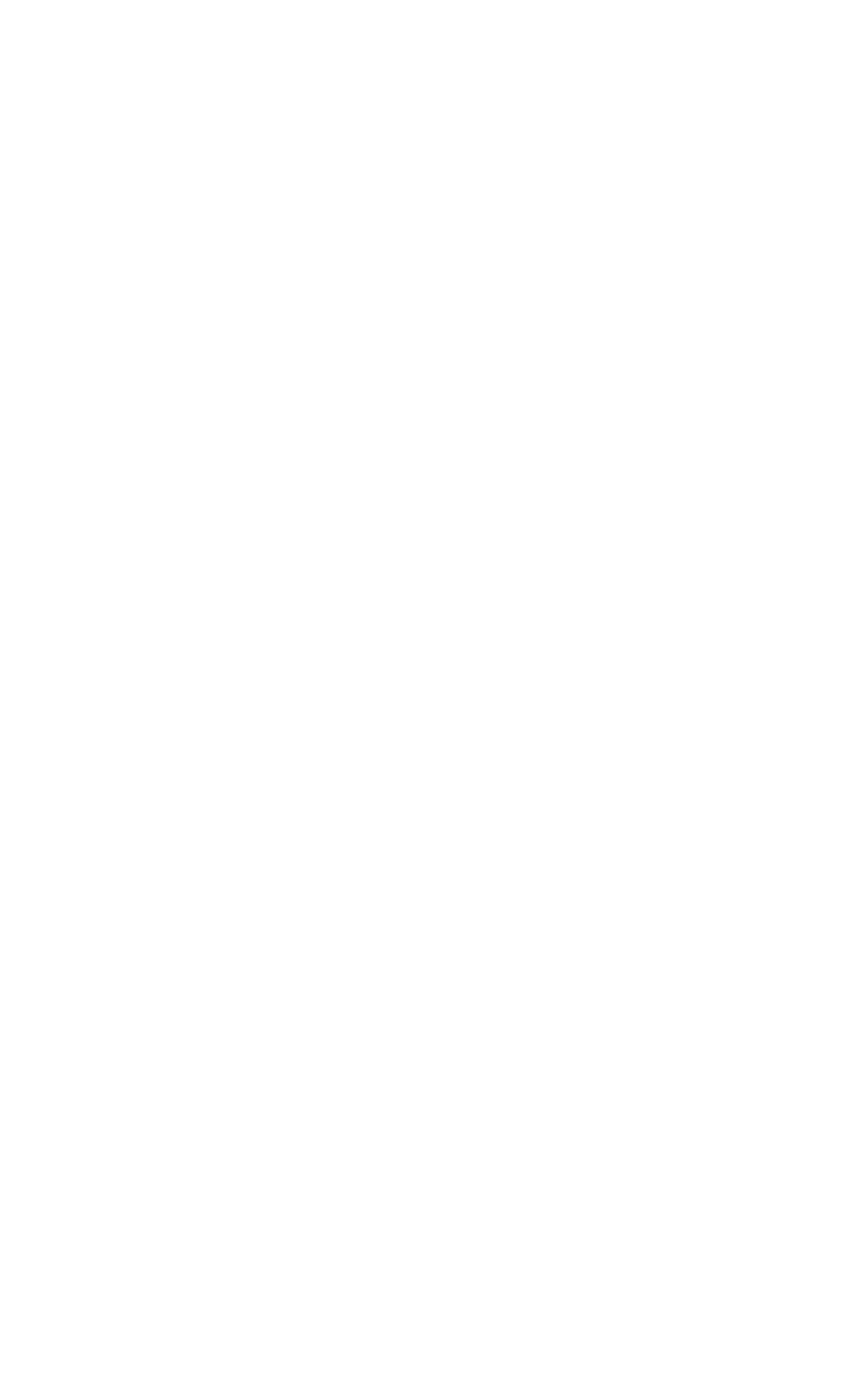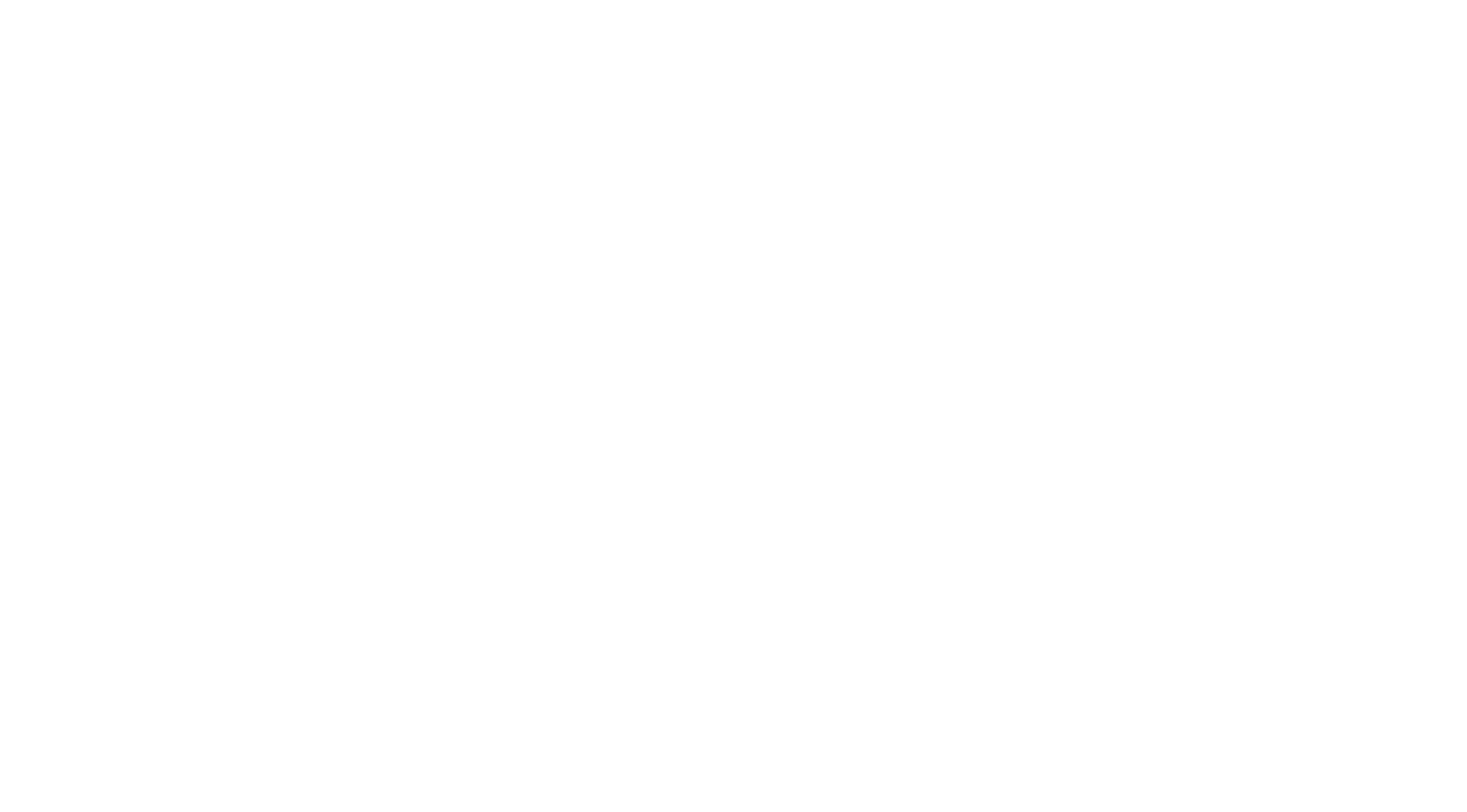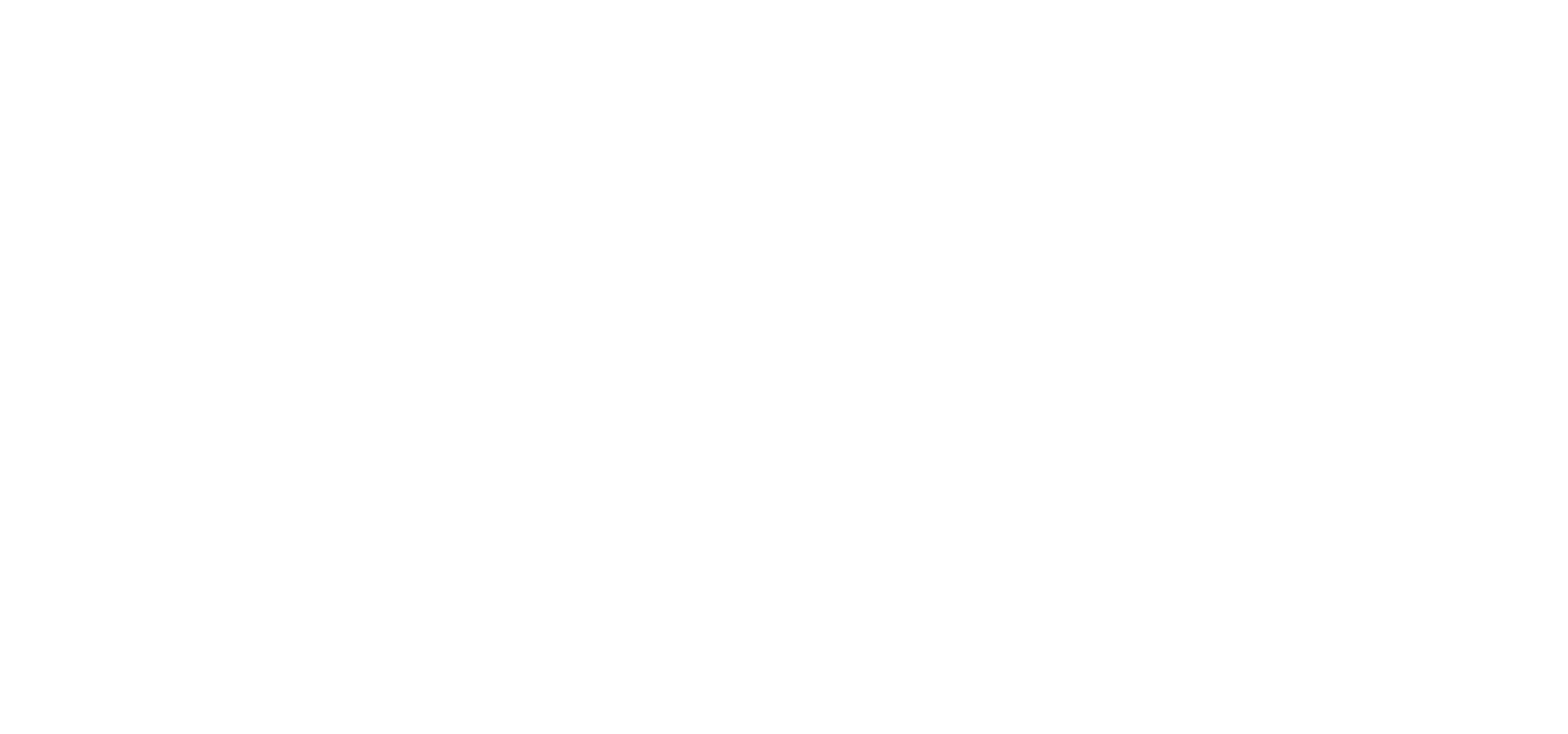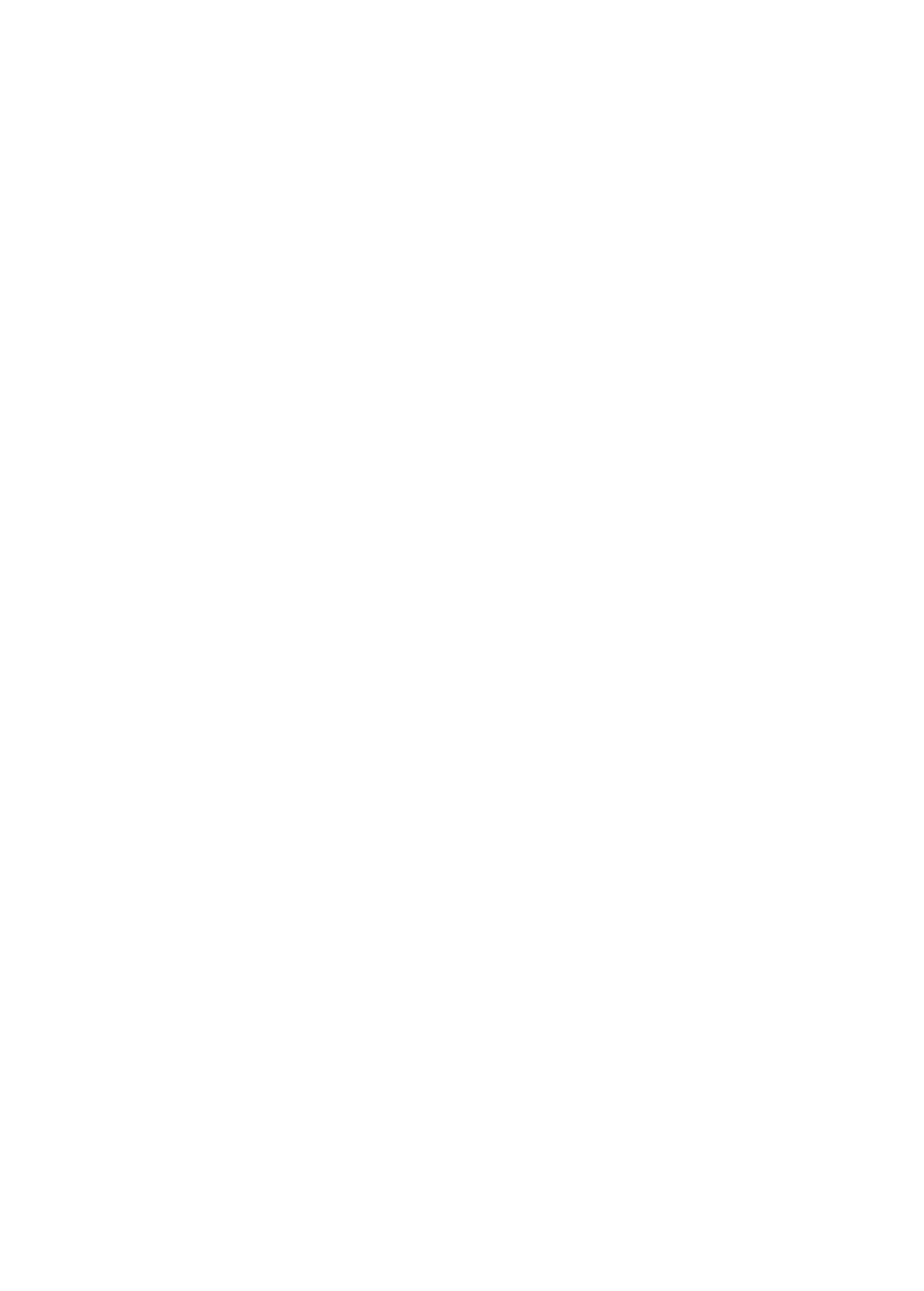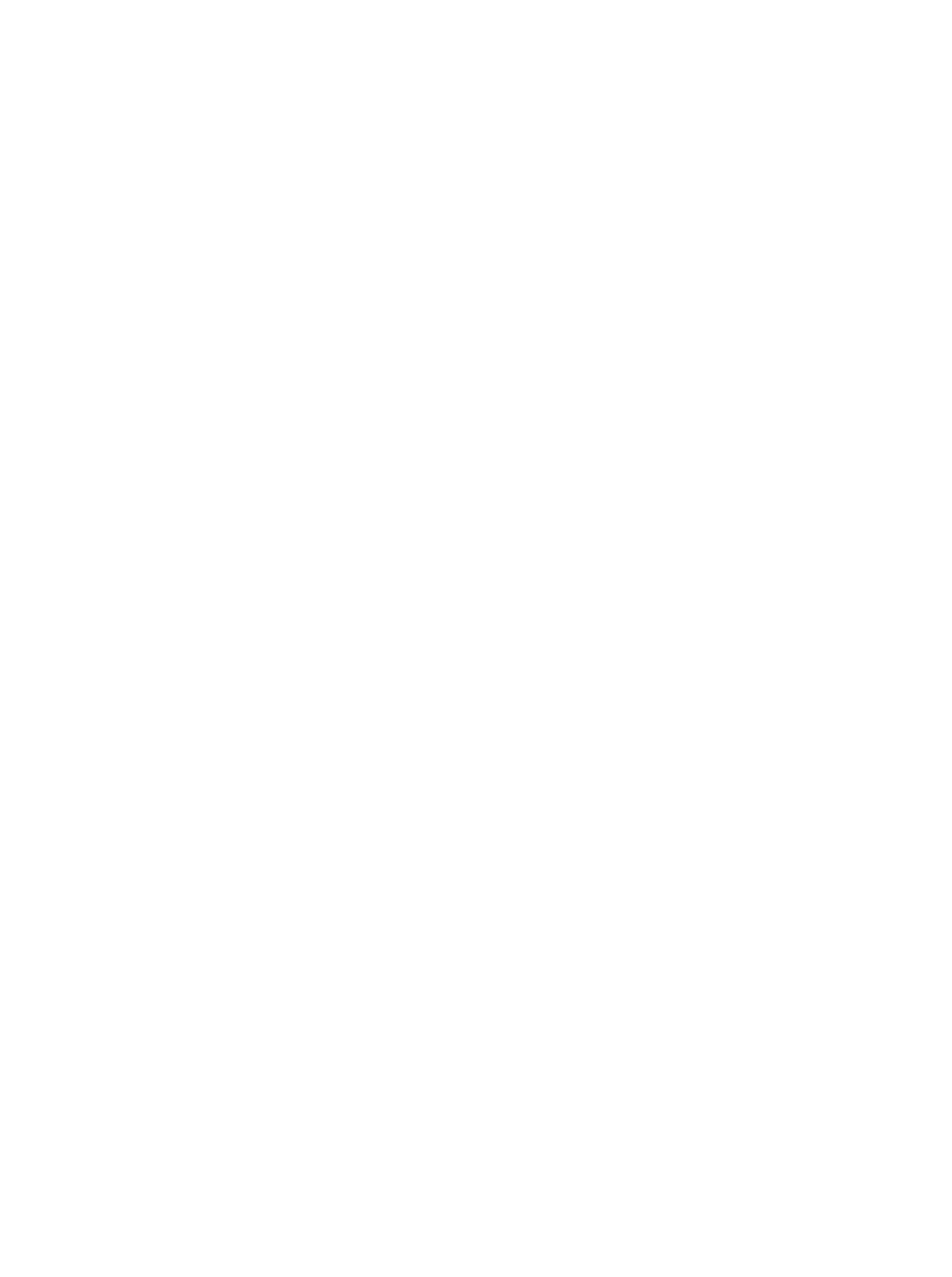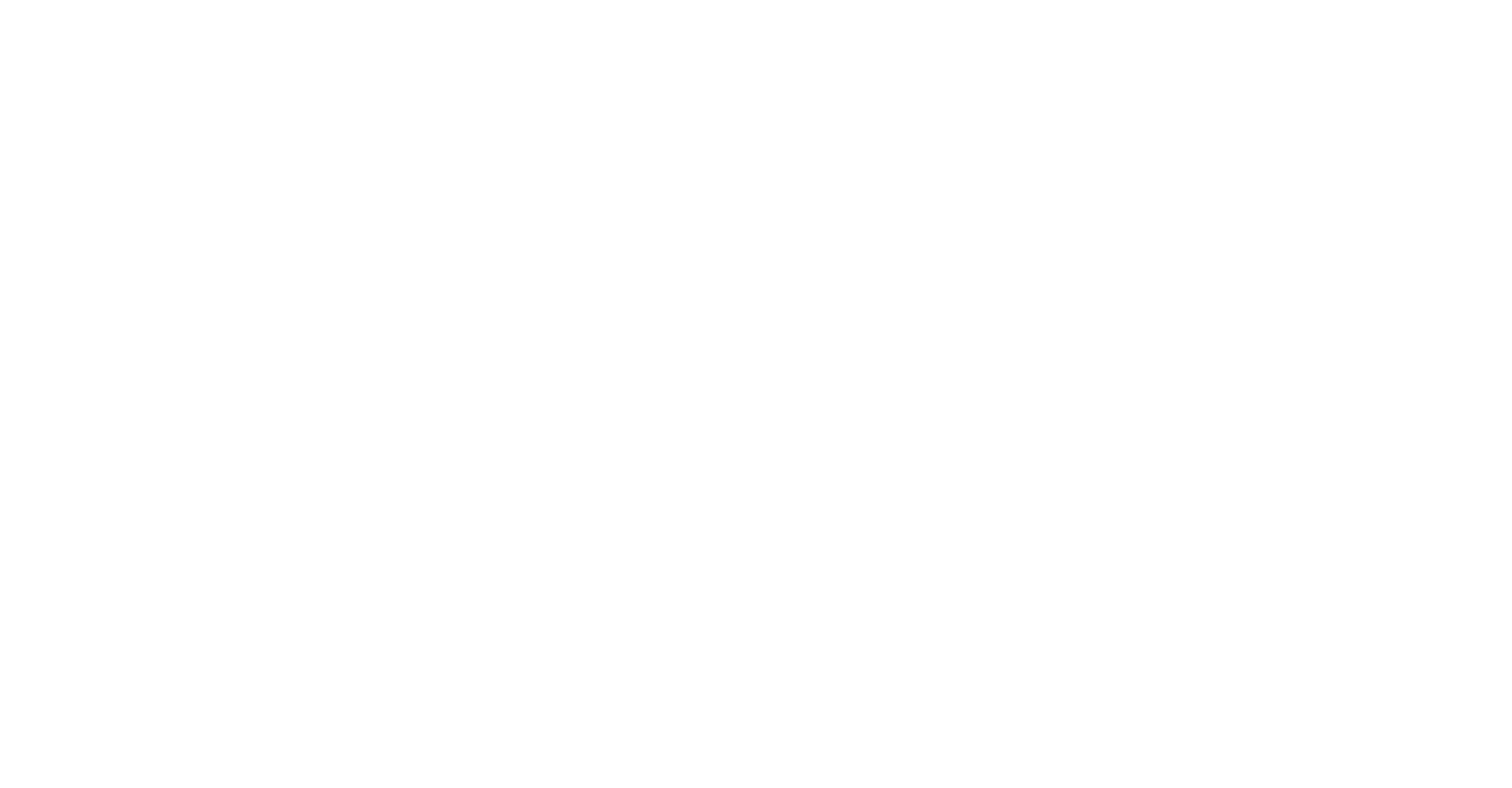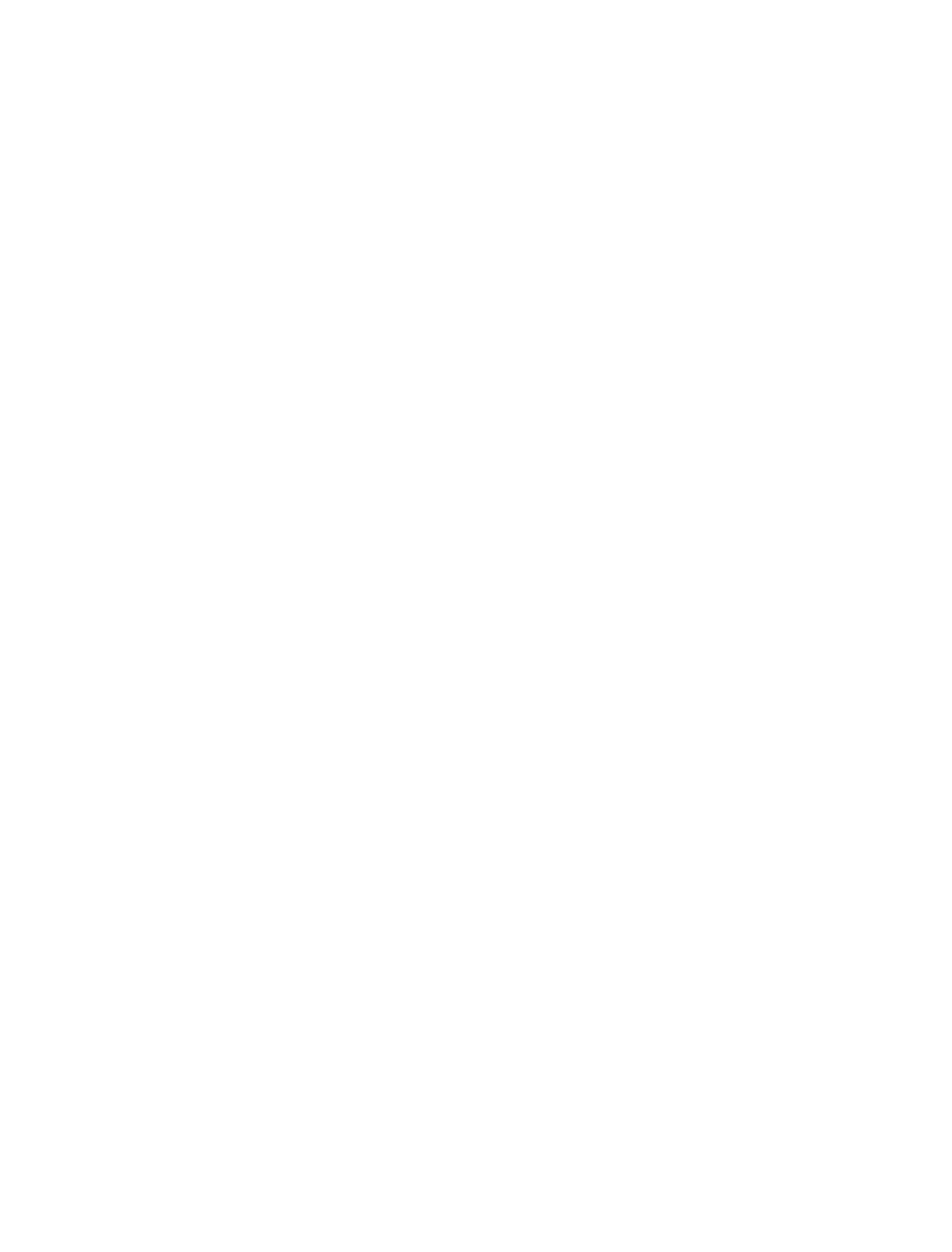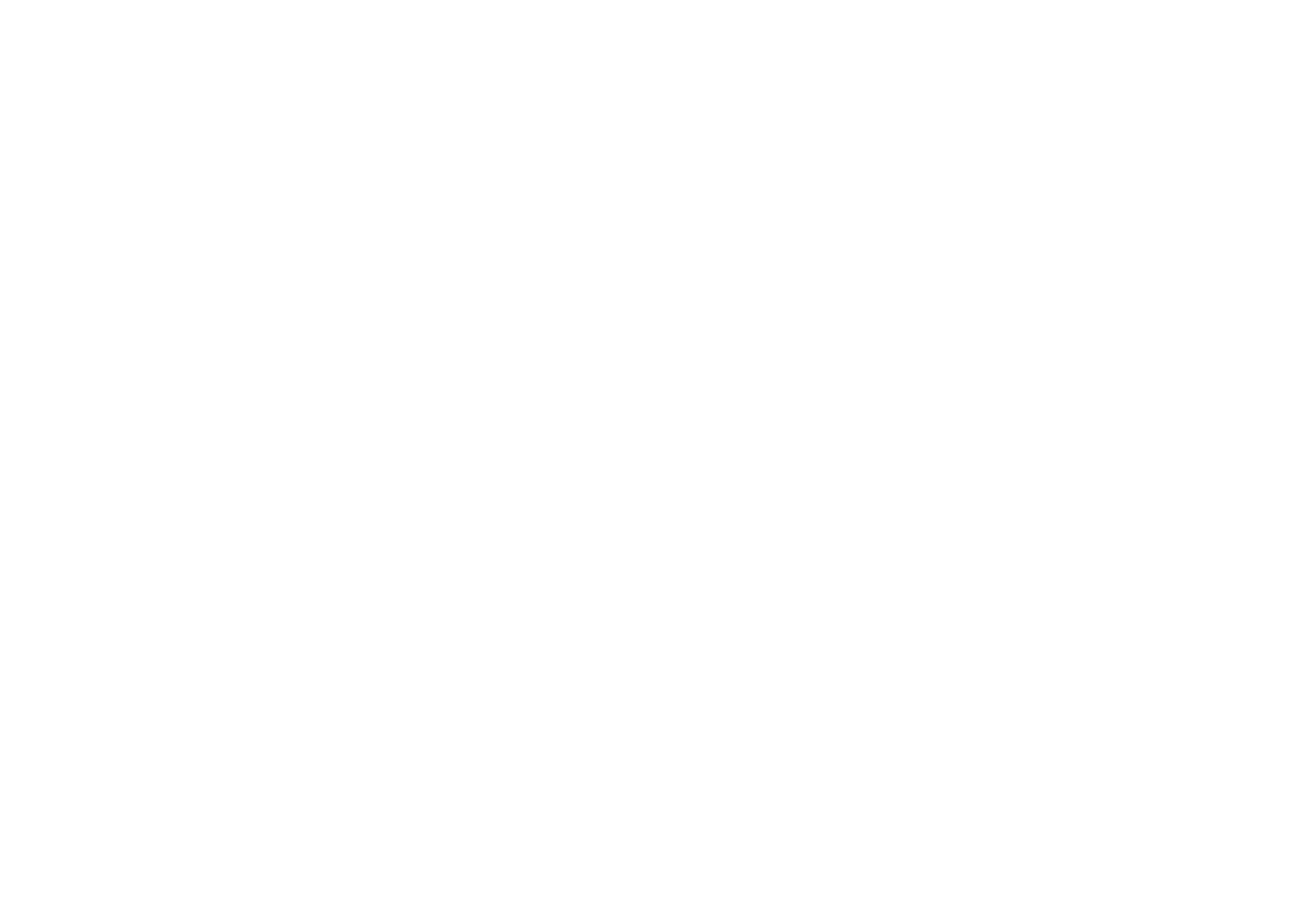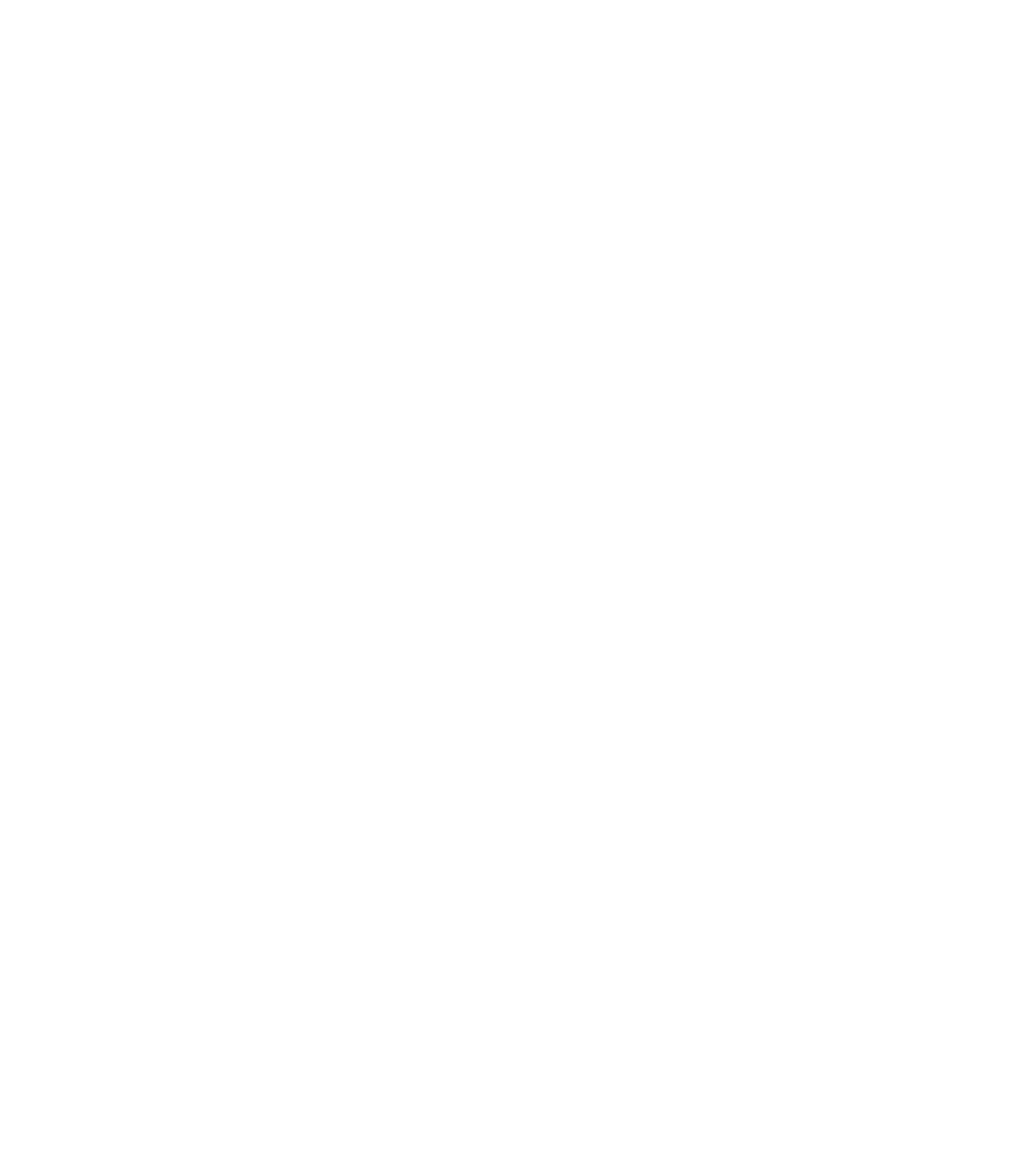«Великий художник, воинствующий реалист».
Жизнь и творчество Василия Сурикова
Жизнь и творчество Василия Сурикова
Вып. 149
«Директ-Медиа»
Москва, 2022
Москва, 2022
«Главные события моей жизни — мои произведения», — этими словами французского писателя Оноре де Бальзака мог бы начать свою биографию Василий Иванович Суриков — величайший из великих художников, чей титанический сорокалетний труд составил славу русской живописи. Действительно, вся его жизнь была подчинена созданию бессмертных монументальных полотен.
Через сложную гамму живых эмоций наблюдателей Суриков показывает трагизм многих исторических событий древней Руси и русский национальный характер. Он словно перемещает зрителя в гущу изображенной на картине толпы, всегда состоящей из отдельных ярких персонажей, заставляя переживать те же чувства, что испытывают герои. Столь же умело художник передает дух эпохи с помощью подробных деталей одежды, архитектуры и предметов быта. Более того, произведения Сурикова настолько достоверны, словно он сам был реальным свидетелем, а то и непосредственным участником давних событий, запечатленных на холсте. Мастер создал немало характерных портретов великих исторических личностей и множество типажей простых русских людей.
Через сложную гамму живых эмоций наблюдателей Суриков показывает трагизм многих исторических событий древней Руси и русский национальный характер. Он словно перемещает зрителя в гущу изображенной на картине толпы, всегда состоящей из отдельных ярких персонажей, заставляя переживать те же чувства, что испытывают герои. Столь же умело художник передает дух эпохи с помощью подробных деталей одежды, архитектуры и предметов быта. Более того, произведения Сурикова настолько достоверны, словно он сам был реальным свидетелем, а то и непосредственным участником давних событий, запечатленных на холсте. Мастер создал немало характерных портретов великих исторических личностей и множество типажей простых русских людей.
Родом из сибирских казаков
Василий Иванович Суриков родился 12 января (24 по новому стилю) 1848 в Красноярске. Его семья принадлежала к старинному казачьему роду. Суриковы упоминаются в летописях как завоеватели Сибири под предводительством Ермака и основатели Красноярска. Художник очень гордился предками и своей малой родиной.
Отец, Иван Васильевич Суриков, служил коллежским регистратором и был настоящим сибиряком, охотником и защитником, достойным своих великих предков. Мать, Прасковья Федоровна (в девичестве Торгошина), женщина сильная, волевая и мудрая оказала на сына огромное влияние своей неординарностью. Ее предки были торговыми казаками, также упоминающимися в летописях Красноярска.
Отец, Иван Васильевич Суриков, служил коллежским регистратором и был настоящим сибиряком, охотником и защитником, достойным своих великих предков. Мать, Прасковья Федоровна (в девичестве Торгошина), женщина сильная, волевая и мудрая оказала на сына огромное влияние своей неординарностью. Ее предки были торговыми казаками, также упоминающимися в летописях Красноярска.
Прасковья Федоровна выросла в большой семье, в старинном, почти сказочном по своей архитектуре доме и хорошо знала древнерусские торжественные обряды. Она великолепно вышивала, обладала тонким чувствованием цвета и полутонов.
Свою любовь к старине, героическим свершениям прошлого, обычаям быта на Руси и внутреннее чувство прекрасного Суриков унаследовал от матери.
Патриархальный и суровый уклад жизни в Сибири с детства воспитывал в местном населении мужество и смелость.
Свою любовь к старине, героическим свершениям прошлого, обычаям быта на Руси и внутреннее чувство прекрасного Суриков унаследовал от матери.
Патриархальный и суровый уклад жизни в Сибири с детства воспитывал в местном населении мужество и смелость.
В том диком краю все еще господствовали жестокие нравы XVII века: эшафоты на площадях, публичные казни, палачи как городские знаменитости, зловещие частоколы острогов, беглые люди и клейменые лица — все это было обыденной реальностью сибиряков, живущих обособленно от всех культурных влияний. Русский человек здесь долго сохранял типичные черты своих древних праотцов, давно утраченные в цивилизованных городах Центральной России. В те времена на дома горожан совершались разбойные нападения, устраивались поджоги, проезжих грабили на дорогах. По окрестным лесам прятались лихие люди, да и диких зверей было немало. Наложили свою печать на Сибирь и сомнительная слава ссылок с каторгой, и золотые прииски. Все эти жестокие реалии крепко запали в память Сурикова и словно отразились в ней эхом трагических событий древней Руси.
Мужчинам-сибирякам с юных лет приходилось защищать себя и своих близких. С малолетства Вася ходил с отцом на охоту, отлично владел ружьем, умело управлялся с лошадьми. Став постарше, участвовал в кулачных боях.
Могучая красота этого великого края, богатство и многообразие его природы, бескрайние леса и необъятные просторы воспитали в будущем художнике широту взглядов, самобытность и большую силу духа.
Мужчинам-сибирякам с юных лет приходилось защищать себя и своих близких. С малолетства Вася ходил с отцом на охоту, отлично владел ружьем, умело управлялся с лошадьми. Став постарше, участвовал в кулачных боях.
Могучая красота этого великого края, богатство и многообразие его природы, бескрайние леса и необъятные просторы воспитали в будущем художнике широту взглядов, самобытность и большую силу духа.
«Эта неудержимая и буйная кровь, не потерявшая своего казацкого хмеля со времен Ермака, текла в жилах Василия Ивановича. Она была наследием с отцовской стороны. Со стороны же матери было глубокое и ясное затишье успокоенного семейного уклада старой Руси», — писал о своем друге поэт и художник Максимилиан Волошин.
Вася Суриков с раннего детства увлекался рисованием: уже в четыре года портил сафьяновые сиденья стульев, выцарапывая на них гвоздем домик или рыбку, за что бывал наказан. Позже стал рисовать угольком или карандашом на бумаге и раскрашивать картинки самодельными красками из синьки и брусники. Закончив два класса приходской школы при Всехсвятской церкви, в 1856 он поступил в приходское училище в Красноярске.
Вася Суриков с раннего детства увлекался рисованием: уже в четыре года портил сафьяновые сиденья стульев, выцарапывая на них гвоздем домик или рыбку, за что бывал наказан. Позже стал рисовать угольком или карандашом на бумаге и раскрашивать картинки самодельными красками из синьки и брусники. Закончив два класса приходской школы при Всехсвятской церкви, в 1856 он поступил в приходское училище в Красноярске.
Его первым преподавателем рисования стал Николай Васильевич Гребнев.
В феврале 1859, когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, от чахотки умер его отец. С утратой основного кормильца семья сразу стала остро нуждаться в деньгах, пришлось даже пустить в дом жильцов. Окончив уездное училище, Василий поступил на службу в канцелярию. Он не прекращал заниматься живописью и твердо решил стать художником, но на продолжение обучения юноши у семьи не было денег.
В феврале 1859, когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, от чахотки умер его отец. С утратой основного кормильца семья сразу стала остро нуждаться в деньгах, пришлось даже пустить в дом жильцов. Окончив уездное училище, Василий поступил на службу в канцелярию. Он не прекращал заниматься живописью и твердо решил стать художником, но на продолжение обучения юноши у семьи не было денег.
Петербургская Академия художеств
“
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.
Лев Озеров
Бездарности пробьются сами.
Лев Озеров
Только благодаря меценату Петру Ивановичу Кузнецову молодой человек смог добраться до Санкт-Петербурга, поступить в Академию художеств и учиться там на выплачиваемую Петром Ивановичем стипендию. Страшно подумать, что если бы не помощь филантропа-золотопромышленника, то у России, возможно, не было бы Сурикова!
С 1869 по 1875 талантливый сибиряк учился в мастерской Павла Петровича Чистякова. В это время за рисунки с натуры и живописные композиции он получил четыре серебряные медали и несколько денежных премий.
С 1869 по 1875 талантливый сибиряк учился в мастерской Павла Петровича Чистякова. В это время за рисунки с натуры и живописные композиции он получил четыре серебряные медали и несколько денежных премий.
Первую самостоятельную работу Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» (1870, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) приобрел все тот же щедрый покровитель Кузнецов. Для начинающего художника картина великолепна по техническому, композиционному и колористическому решениям.
В то время Сурикова увлекали темы из древней истории: Античность, Рим, Египет, первые века христианства. Василий Иванович получил первую премию за великолепный эскиз «Пир Валтасара» (1874, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — яркую, смелую, выразительную, совсем не ученическую работу.
В то время Сурикова увлекали темы из древней истории: Античность, Рим, Египет, первые века христианства. Василий Иванович получил первую премию за великолепный эскиз «Пир Валтасара» (1874, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — яркую, смелую, выразительную, совсем не ученическую работу.
Двадцатишестилетний живописец взял сюжет из Библии о последнем халдейском правителе Вавилона, беспечно пирующем за неприступными стенами города, осажденного персами. Но вот уже загораются огненные письмена, которые истолковывает пророк Даниил: «МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство твое и дано мидянам и персам…» (Дан., 5: 25−28). Репродукция и статья об этой картине были помещены в журнале «Всемирная иллюстрация».
«Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там «композитором» звали, – рассказывал Суриков Максимилиану Волошину. – Я все естественность и красоту композиции изучал. Дома сам себе задачи задавал и разрешал. Образцов никаких не признавал – все сам. А в живописи только колоритную сторону изучал. Павел Петрович Чистяков очень развивал меня. Я это еще и в Сибири любил, а здесь он мне указал путь истинного колорита».
«Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там «композитором» звали, – рассказывал Суриков Максимилиану Волошину. – Я все естественность и красоту композиции изучал. Дома сам себе задачи задавал и разрешал. Образцов никаких не признавал – все сам. А в живописи только колоритную сторону изучал. Павел Петрович Чистяков очень развивал меня. Я это еще и в Сибири любил, а здесь он мне указал путь истинного колорита».
Конкурс на большую золотую медаль в Академии не выиграл ни один из четырех претендентов, хотя Чистяков и бился с бюрократией профессоров, отстаивая работу своего любимца. Суриков представил картину «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста» (1875, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Изобразив столкновение христианства, римского язычества и иудаизма, он расширил тему, включив в композицию дополнительных персонажей, завороженно слушающих вдохновенную речь Павла. Картина вышла живой и выразительной, после нее молодой художник получил очень выгодный заказ на выполнение четырех росписей на тему истории Вселенских cоборов для строящегося тогда в Москве храма Христа Спасителя. Эта первая и последняя заказная работа дала живописцу материальную базу для дальнейшего свободного творчества.
С окончанием Академии Василий Суриков прочно и неразрывно связал жизнь с постоянной кропотливой работой над своими великолепными масштабными полотнами.
С окончанием Академии Василий Суриков прочно и неразрывно связал жизнь с постоянной кропотливой работой над своими великолепными масштабными полотнами.
Мистическое воздействие Москвы
Переезд в Москву в 1877 сыграл в судьбе художника решающую роль. О личных впечатлениях Суриков писал: «Началось здесь, в Москве, со мною что-то странное. Прежде всего, почувствовал я себя здесь уютнее, чем в Петербурге. Было в Москве что-то гораздо больше напоминавшее мне Красноярск, особенно зимой. И, как забытые сны, стали все больше и больше вставать в памяти картины того, что видел в детстве, а затем и в юности, стали припоминаться типы, костюмы, и потянуло ко всему этому, как к чему-то родному и несказанно дорогому.
Но больше всего захватил меня Кремль с его стенами и башнями. Сам не знаю почему, но почувствовал я в них что-то удивительно мне близкое, точно давно и хорошо знакомое. Как только начинало темнеть, я… отправлялся бродить по Москве и все больше к кремлевским стенам. Эти стены сделались любимым местом моих прогулок именно в сумерки.
Но больше всего захватил меня Кремль с его стенами и башнями. Сам не знаю почему, но почувствовал я в них что-то удивительно мне близкое, точно давно и хорошо знакомое. Как только начинало темнеть, я… отправлялся бродить по Москве и все больше к кремлевским стенам. Эти стены сделались любимым местом моих прогулок именно в сумерки.
И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни души… И вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина".
За годы работы над полотном «Утро стрелецкой казни» (1878−1881, Государственная Третьяковская галерея, Москва) в жизни Сурикова произошли огромные перемены. Он успел жениться, в семье родились две дочери — Ольга и Елена. Его супруга Елизавета Августовна Шаре по отцу была француженкой, а по матери приходилась родственницей декабристу Свистунову. Познакомились они еще в Петербурге в костеле Святой Екатерины на Невском проспекте, куда приходили слушать органную музыку. Работая над росписями в храме Христа Спасителя, Василий Иванович часто приезжал в столицу, встречался с Елизаветой Августовной, был представлен ее отцу Августу Шаре, владельцу небольшого предприятия по торговле бумагой. Художника не увлекла работа в храме, он мечтал поскорее ее закончить, стать материально независимым и жениться.
Венчание состоялось 25 января 1878 во Владимирской церкви в Петербурге. Со стороны жениха присутствовали только семья Кузнецовых и Чистяков. Суриков боялся реакции матери на известие о своей женитьбе на француженке и не сообщил родным в Красноярск о свадьбе.
За годы работы над полотном «Утро стрелецкой казни» (1878−1881, Государственная Третьяковская галерея, Москва) в жизни Сурикова произошли огромные перемены. Он успел жениться, в семье родились две дочери — Ольга и Елена. Его супруга Елизавета Августовна Шаре по отцу была француженкой, а по матери приходилась родственницей декабристу Свистунову. Познакомились они еще в Петербурге в костеле Святой Екатерины на Невском проспекте, куда приходили слушать органную музыку. Работая над росписями в храме Христа Спасителя, Василий Иванович часто приезжал в столицу, встречался с Елизаветой Августовной, был представлен ее отцу Августу Шаре, владельцу небольшого предприятия по торговле бумагой. Художника не увлекла работа в храме, он мечтал поскорее ее закончить, стать материально независимым и жениться.
Венчание состоялось 25 января 1878 во Владимирской церкви в Петербурге. Со стороны жениха присутствовали только семья Кузнецовых и Чистяков. Суриков боялся реакции матери на известие о своей женитьбе на француженке и не сообщил родным в Красноярск о свадьбе.
Символизм стрелецкой казни
Молодые поселились в Москве. Живописец с головой ушел в работу над «Утром стрелецкой казни». Он был наконец свободен от материальных забот, бытовые хлопоты взяла на себя супруга. Впрочем, в быту Василий Иванович всегда был непритязателен и прост.
В течение нескольких лет Суриков не писал ничего постороннего. Захватившая идея картины полностью заполнила все его мысли. Когда-то давно ему запал в память один образ, поразивший, как трагическая аллегория: зажженная днем свеча — печальный символ похорон и смерти. Он много лет волновал Сурикова, пока не соединился с темой расправы над стрельцами. Тусклый в сизом воздухе хмурого утра огонек свечи в еще живой руке ассоциировался с казнью. Архитектурное окружение Лобного места возле Кремля подсказало основу многофигурной композиции, а образы стрельцов и множество свечей стали ее ключевыми составляющими.
В течение нескольких лет Суриков не писал ничего постороннего. Захватившая идея картины полностью заполнила все его мысли. Когда-то давно ему запал в память один образ, поразивший, как трагическая аллегория: зажженная днем свеча — печальный символ похорон и смерти. Он много лет волновал Сурикова, пока не соединился с темой расправы над стрельцами. Тусклый в сизом воздухе хмурого утра огонек свечи в еще живой руке ассоциировался с казнью. Архитектурное окружение Лобного места возле Кремля подсказало основу многофигурной композиции, а образы стрельцов и множество свечей стали ее ключевыми составляющими.
Удивительная картина насквозь пронизана символами. Потухшая свеча — это погасшая жизнь. Безутешная женщина на первом плане прижимает к голове погасшую свечу уже казненного стрельца. Рядом с ней брошена в грязь едва тлеющая свеча того, кого сейчас уводят на казнь. Солдат в центре уже отобрал смертную свечу у седого бородача и задувает ее. Остальные свечи еще горят ровно и ярко.
Центральной сюжетной линией картины и ее главным эмоциональным стержнем является противостояние стрельцов царской тирании. Наиболее символичен образ рыжебородого солдата. Его руки связаны, ноги закованы в колодки, но пылающий ненавистью непримиримый взгляд бьет через все пространство картины, сталкиваясь с гневным и таким же непримиримым взглядом Петра.
Центральной сюжетной линией картины и ее главным эмоциональным стержнем является противостояние стрельцов царской тирании. Наиболее символичен образ рыжебородого солдата. Его руки связаны, ноги закованы в колодки, но пылающий ненавистью непримиримый взгляд бьет через все пространство картины, сталкиваясь с гневным и таким же непримиримым взглядом Петра.
Иностранцы, изображенные справа, пока спокойно наблюдают за происходящим, но потом будут в ужасе описывать, как русский самодержец собственноручно выступал в роли палача. Петр лично отрубил головы топором пятерым мятежникам и одному священнослужителю, благословившему бунт, и казнил более восьмидесяти стрельцов мечом. Царь также заставлял участвовать в жестокой расправе своих бояр, которые не умели обращаться с топором и причиняли своими действиями невыносимые муки приговоренным. Обо всем этом Суриков читал в дневнике секретаря австрийского посольства Корба, очевидца событий.
Но в самой картине отсутствуют кровавые сцены: художник хотел передать величие последних минут, а не саму казнь. Лишь множество красных деталей одежды, а также багровый силуэт Покровского собора, возвышающегося над толпой осужденных стрельцов и их семьями, напоминает зрителю о том, как много крови пролилось в то трагическое утро.
Очень важна архитектурная конструкция полотна. Стоящая одиноко башня Кремля соответствует одинокой фигуре царя; вторая, ближняя башня, объединяет в одно целое толпу наблюдателей, бояр и иностранцев; ровный строй солдат в точности повторяет линию кремлевской стены.
Но в самой картине отсутствуют кровавые сцены: художник хотел передать величие последних минут, а не саму казнь. Лишь множество красных деталей одежды, а также багровый силуэт Покровского собора, возвышающегося над толпой осужденных стрельцов и их семьями, напоминает зрителю о том, как много крови пролилось в то трагическое утро.
Очень важна архитектурная конструкция полотна. Стоящая одиноко башня Кремля соответствует одинокой фигуре царя; вторая, ближняя башня, объединяет в одно целое толпу наблюдателей, бояр и иностранцев; ровный строй солдат в точности повторяет линию кремлевской стены.
Художник умышленно придвинул все сооружения к Лобному месту, применив композиционный прием сближения планов и создав эффект огромной народной толпы. Собор продолжает и венчает собой это людское скопище, но центральный купол храма Покрова Богородицы словно не вместился в пространство: он «срезан» верхним краем картины и символизирует образ Руси, обезглавленной Петром I. Остальные десять куполов соответствуют десяти изображенным смертным свечам. Последние явно не случайно расположены в соответствии со строгой геометрией. Четыре ярких огонька лежат ровно на одной наклонной линии, начинающейся от левого нижнего угла (в руке человека, сидящего к нам спиной), проходящей через пламя свеч рыжебородого и чернобородого стрельцов к стоящему вверху и кланяющемуся народу смертнику. Но если через расположенную на полотне выше других свечу в руках стоящего стрельца провести прямую, направленную вниз — к той, что догорает в грязи, то эта линия тоже соединит три пламени, проходя через задуваемый солдатом огонек. Таким образом отчетливо проявляется строгий крест, словно придавивший толпу обреченных бунтовщиков.
Три другие, менее заметные свечи, находящиеся на дальних планах композиции (слева под дугой, перед стоящим вверху стрельцом и сразу позади него), тоже расположены на одной линии, фактически делящей полотно пополам. Ее по строгому перпендикуляру пересекает прямая, проведенная между верхней свечой и погасшей.
Три другие, менее заметные свечи, находящиеся на дальних планах композиции (слева под дугой, перед стоящим вверху стрельцом и сразу позади него), тоже расположены на одной линии, фактически делящей полотно пополам. Ее по строгому перпендикуляру пересекает прямая, проведенная между верхней свечой и погасшей.
Всего же на картине три правильных креста. Третий образуется пересечением «линии воли и противостояния» (от глаз царя к глазам рыжебородого стрельца) и той, что идет от погасшей свечи к тихому огоньку на дальнем плане, ниже лица стоящего стрельца.
Всему творчеству Сурикова свойственна удивительная забота о тех, кто придет смотреть на его картины: «Все у меня была мысль, чтобы зрителя не потревожить, чтобы спокойствие во всем было…», — говорил он о своих «Стрельцах». Несмотря на ужас передаваемого исторического события, художник постарался изобразить трагедию человеческих судеб максимально сдержанно. Никакой внешней вычурной эффектности и театральности, никаких занесенных топоров, воздетых к небу рук, окровавленных одежд, висельников и отрубленных голов. Только глубокий драматизм всенародного горя. От этой картины не хочется с содроганием отвернуться, наоборот рассматривая ее, все больше погружаешься в детали, сопереживаешь ее героям, остро понимая жестокость того времени.
Полотно «Утро стрелецкой казни» экспонировалось на Девятой передвижной выставке в марте 1881. Еще до ее открытия Илья Репин писал Павлу Третьякову: «Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос выказали готовность дать ей самое лучшее место; у всех написано на лицах, что она — наша гордость на этой выставке… Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена… Какая перспектива, как далеко ушел Петр! Могучая картина!» Третьяков сразу же приобрел это гениальное историческое произведение для своей коллекции, заплатив мастеру восемь тысяч рублей.
Но 1 марта 1881 было отмечено еще одним событием, составившим мистический противовес теме расправы над бунтарями. В день начала выставки, на которой центральное место занимала картина, изображающая казнь стрельцов царем Петром I, народовольцы совершили террористический акт, расправившись с императором Александром II.
Всему творчеству Сурикова свойственна удивительная забота о тех, кто придет смотреть на его картины: «Все у меня была мысль, чтобы зрителя не потревожить, чтобы спокойствие во всем было…», — говорил он о своих «Стрельцах». Несмотря на ужас передаваемого исторического события, художник постарался изобразить трагедию человеческих судеб максимально сдержанно. Никакой внешней вычурной эффектности и театральности, никаких занесенных топоров, воздетых к небу рук, окровавленных одежд, висельников и отрубленных голов. Только глубокий драматизм всенародного горя. От этой картины не хочется с содроганием отвернуться, наоборот рассматривая ее, все больше погружаешься в детали, сопереживаешь ее героям, остро понимая жестокость того времени.
Полотно «Утро стрелецкой казни» экспонировалось на Девятой передвижной выставке в марте 1881. Еще до ее открытия Илья Репин писал Павлу Третьякову: «Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос выказали готовность дать ей самое лучшее место; у всех написано на лицах, что она — наша гордость на этой выставке… Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена… Какая перспектива, как далеко ушел Петр! Могучая картина!» Третьяков сразу же приобрел это гениальное историческое произведение для своей коллекции, заплатив мастеру восемь тысяч рублей.
Но 1 марта 1881 было отмечено еще одним событием, составившим мистический противовес теме расправы над бунтарями. В день начала выставки, на которой центральное место занимала картина, изображающая казнь стрельцов царем Петром I, народовольцы совершили террористический акт, расправившись с императором Александром II.
Шекспировская драма
Замысел картины «Меншиков в Березове» (1883, Государственная Третьяковская галерея, Москва) появился в деревне Перерве под Москвой, куда семья живописца выехала на лето. Они сняли крохотную избушку без печки, с низким потолком и маленькими окошками. Погода была дождливой и холодной, все семейство постоянно сидело дома, кутаясь в платки и шубы. Однажды, оглядев домочадцев, собравшихся у стола, Суриков вдруг понял, что вот так же когда-то сидел любимец и ближайший сподвижник Петра I — светлейший князь Александр Данилович Меншиков, после смерти своего государя сосланный с семьей умирать в холодный сибирский городок Березов.
«Меншиков» из всех суриковских драм — наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим», — писал художник М. В. Нестеров. Это единственная интерьерная картина из всех классических работ живописца. Его упрекали за несоблюдение правил перспективы, указывая на диспропорцию между огромным ростом Меншикова и низким потолком избушки. Но, вероятно, это было сделано сознательно, чтобы показать всю трагичность состояния сильной и властной личности, привыкшей мыслить масштабами всей России, а ныне обреченной на медленную смерть в убогой лачуге. Меншикову тесно не помещение, ему тесна сама ситуация, в которой он оказался. Но думает светлейший князь не о себе, а о детях, которые должны были стать продолжателями его честолюбивых замыслов и вот теперь вынуждены разделить его печальную участь. Старшая дочь, бывшая «царева невеста», сидящая у ног отца, смертельно больна. Обреченность видна во всей ее фигуре, в болезненной бледности лица. Ни она, ни сам Александр Данилович не доживут до той поры, когда младшие дети будут возвращены из ссылки.
Суриков писал своего героя со случайно встреченного на улице старого учителя математики, поразившись его портретному сходству с исторической личностью. Старшую дочь Меншикова — со своей супруги, когда она тяжело и долго болела.
Применив метод многократных прописок и лессировок на корпусной основе, придав особую насыщенность, красоту и сложность краскам, заставив их переливаться, как драгоценные камни, Василий Иванович проявил себя в этой картине замечательным колористом. Работа поразительно гармонична. Павел Третьяков первым увидел ее «шекспировскую трагичность» и необычайное колористическое совершенство. Мастер получил за свое полотно пять тысяч рублей, что дало ему возможность совершить вместе с семьей долгожданную поездку в Европу.
Суриков писал своего героя со случайно встреченного на улице старого учителя математики, поразившись его портретному сходству с исторической личностью. Старшую дочь Меншикова — со своей супруги, когда она тяжело и долго болела.
Применив метод многократных прописок и лессировок на корпусной основе, придав особую насыщенность, красоту и сложность краскам, заставив их переливаться, как драгоценные камни, Василий Иванович проявил себя в этой картине замечательным колористом. Работа поразительно гармонична. Павел Третьяков первым увидел ее «шекспировскую трагичность» и необычайное колористическое совершенство. Мастер получил за свое полотно пять тысяч рублей, что дало ему возможность совершить вместе с семьей долгожданную поездку в Европу.
Влияние европейских мастеров
Суриковы ехали через Берлин, Дрезден, Кельн, останавливаясь в каждом из этих городов для осмотра картинных галерей.
В Париже с его богатой художественной жизнью самое искреннее восхищение вызвали у живописца работы великих итальянских и испанских мастеров: Тициана, Веронезе, Веласкеса.
Он писал Чистякову: «Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное, неизменяемое наслаждение может доставлять, если он непосредственно, горячо передан с природы. В этой тайне меня особенно убеждают старые итальянские и испанские мастера...» Особенное впечатление оказало на художника «Поклонение волхвов» Веронезе: «Какая невероятная сила, нечеловеческая мощь могла создать эту картину! Ведь это живая натура, задвинутая за раму... Не знаю, есть ли на свете еще такая вещь», – писал он.
Он писал Чистякову: «Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное, неизменяемое наслаждение может доставлять, если он непосредственно, горячо передан с природы. В этой тайне меня особенно убеждают старые итальянские и испанские мастера...» Особенное впечатление оказало на художника «Поклонение волхвов» Веронезе: «Какая невероятная сила, нечеловеческая мощь могла создать эту картину! Ведь это живая натура, задвинутая за раму... Не знаю, есть ли на свете еще такая вещь», – писал он.
Из Франции Суриков с семьей отправился в Италию. Часами живописец пропадал в музеях Милана, Флоренции, Неаполя, Рима, Венеции, Помпеи, изучая бессмертные творения мастеров прошлого.
Из письма Чистякову: «Мне всегда нравится у Веронезе серый, нейтральный цвет воздуха, холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе, но выйдет, я думаю, на улицу и видит, что натура в холодноватом рефлексе».
Во время путешествий Василий Иванович много работал: например, писал восхитительные итальянские акварели. Художник обычно предпочитал рассеянное освещение, легкую серебристую прохладу, избегая резкого солнечного света и открытых цветов. Вместе с тем особое внимание он уделял влиянию света и воздуха на цвет и форму предметов.
Из письма Чистякову: «Мне всегда нравится у Веронезе серый, нейтральный цвет воздуха, холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе, но выйдет, я думаю, на улицу и видит, что натура в холодноватом рефлексе».
Во время путешествий Василий Иванович много работал: например, писал восхитительные итальянские акварели. Художник обычно предпочитал рассеянное освещение, легкую серебристую прохладу, избегая резкого солнечного света и открытых цветов. Вместе с тем особое внимание он уделял влиянию света и воздуха на цвет и форму предметов.
В Риме Суриковы видели традиционный весенний карнавал. Свои впечатления от этого пышного и необычного зрелища живописец передал в очень выразительной и красочной картине, наполненной радостью и итальянским колоритом, – «Сцена из римского карнавала» (1884, Государственная Третьяковская галерея, Москва).
Дар исторического прозрения
Александр Бенуа сравнил своего великого современника с не менее гениальным немецким художником Адольфом фон Менцелем, подчеркивая общий для обоих редчайший дар исторического прозрения и невероятной достоверности даже самых незначительных деталей, добывая которые нужно провести огромную подготовительную работу: «Суриков, единственный из художников всего XIX века, может подать руку этому удивительному чародею. Для того чтобы изобразить давно прошедшие события с такой ясностью, нужно было перечитать и пересмотреть целые библиотеки. Однако и Суриков не только великий реалист-ученый, но по существу своему поэт, и, быть может, сам того не сознавая, этот художник обладает огромным мистическим дарованием. Как Менцель близок по духу мистику и реалисту Гофману, так точно Суриков близок по духу мистику и реалисту Достоевскому. Но все у Сурикова, у этого неумолимого реалиста, отзывается чем-то сверхъестественным — не то Богом, не то бесом».
Но, несмотря на мистицизм, окутывающий все творчество Сурикова, он был очень светлым и религиозным человеком, добрым и чистым душой. Гении такого уровня носят в себе искру таланта от Бога. Мистические провидения художника можно объяснить памятью рода, памятью крови, памятью бессмертной души.
Но, несмотря на мистицизм, окутывающий все творчество Сурикова, он был очень светлым и религиозным человеком, добрым и чистым душой. Гении такого уровня носят в себе искру таланта от Бога. Мистические провидения художника можно объяснить памятью рода, памятью крови, памятью бессмертной души.
Сила духа мятежной раскольницы
Вернувшись в Москву, Суриков начал писать «Боярыню Морозову» (1887, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Замысел этой работы зрел в его душе долгие годы. Еще в детстве он слышал рассказ о неистовой раскольнице боярыне Морозовой, которая, отстаивая старую веру, пошла против самого царя и патриарха Никона, за что была подвергнута страшным мучениям и заточена в земляную тюрьму в Боровске.
Много лет художник собирал материал для картины, делал эскизы, искал подходящие лица. Труднее всего оказалось найти образ самой Морозовой. Толпу, как всегда состоящую из отдельных, очень выразительных и характерных персонажей, Суриков написал раньше, а вот главную героиню подбирал очень долго. Нужно было добиться того, чтобы ее лицо доминировало над всеми остальными, выделялось. Но какой бы образ не вписывался на пустое центральное место, толпа его эмоционально затмевала. Василий Иванович увидел мятежную раскольницу в приехавшей с Урала старообрядке. «И как вставил ее в картину — она всех победила».
Лицо боярыни Морозовой выделяется необычайной бледностью и темными тенями, в широко распахнутых глазах — непримиримая воля и вера в свою правоту. Пальцы правой, вскинутой вверх руки сложены в старообрядческое двуперстие. Единственный, кто из толпы посмел ей ответить аналогичным жестом, — сидящий прямо на снегу босой юродивый в лохмотьях и веригах. Рядом с ним провожает и оплакивает свою благодетельницу нищенка. Все женщины на картине открыто сострадают мученице, только несколько мужчин насмехаются над некогда богатой и знатной боярыней, которую теперь, как простую крестьянку, везут в розвальнях.
Дети же ведут себя непосредственно, в их лицах сконцентрированы эмоции всей толпы. Старший, стоящий слева подросток, погружен в себя и смотрит глубоким, застывшим взглядом. Он потрясен трагической судьбой этой мужественной женщины. Мальчишки справа только что весело смеялись, ведь для них любое сборище — развлечение. Тот, которому за возницей пока не видно боярыню, все еще беззаботно хохочет, но ближний к зрителю ребенок уже ошеломлен прекрасным и одновременно ужасающим своим фанатизмом лицом Морозовой. Улыбка еще теплится в уголках его рта, но во взгляде уже видны потрясение и первое детское прозрение, очень ярко переданные художником. Неспроста именно это лицо Суриков сделал центром композиции — оно символизирует будущее. Мальчик никогда не забудет увиденного зрелища и расскажет о нем потомкам.
Много лет художник собирал материал для картины, делал эскизы, искал подходящие лица. Труднее всего оказалось найти образ самой Морозовой. Толпу, как всегда состоящую из отдельных, очень выразительных и характерных персонажей, Суриков написал раньше, а вот главную героиню подбирал очень долго. Нужно было добиться того, чтобы ее лицо доминировало над всеми остальными, выделялось. Но какой бы образ не вписывался на пустое центральное место, толпа его эмоционально затмевала. Василий Иванович увидел мятежную раскольницу в приехавшей с Урала старообрядке. «И как вставил ее в картину — она всех победила».
Лицо боярыни Морозовой выделяется необычайной бледностью и темными тенями, в широко распахнутых глазах — непримиримая воля и вера в свою правоту. Пальцы правой, вскинутой вверх руки сложены в старообрядческое двуперстие. Единственный, кто из толпы посмел ей ответить аналогичным жестом, — сидящий прямо на снегу босой юродивый в лохмотьях и веригах. Рядом с ним провожает и оплакивает свою благодетельницу нищенка. Все женщины на картине открыто сострадают мученице, только несколько мужчин насмехаются над некогда богатой и знатной боярыней, которую теперь, как простую крестьянку, везут в розвальнях.
Дети же ведут себя непосредственно, в их лицах сконцентрированы эмоции всей толпы. Старший, стоящий слева подросток, погружен в себя и смотрит глубоким, застывшим взглядом. Он потрясен трагической судьбой этой мужественной женщины. Мальчишки справа только что весело смеялись, ведь для них любое сборище — развлечение. Тот, которому за возницей пока не видно боярыню, все еще беззаботно хохочет, но ближний к зрителю ребенок уже ошеломлен прекрасным и одновременно ужасающим своим фанатизмом лицом Морозовой. Улыбка еще теплится в уголках его рта, но во взгляде уже видны потрясение и первое детское прозрение, очень ярко переданные художником. Неспроста именно это лицо Суриков сделал центром композиции — оно символизирует будущее. Мальчик никогда не забудет увиденного зрелища и расскажет о нем потомкам.
Рядом с розвальнями, в которых везут мятежную боярыню, идет княгиня Евдокия Урусова в сопровождении конвоиров. Она смотрит на сестру, как на святую, не видя ничего, кроме ее лица. Это самый трагический образ в полотне. Княгиня Урусова также отказалась от богатства и знатности, прошла такой же путь раскольницы и мученицы (впоследствии она добровольно приняла смерть за старую веру), но толпа, поглощенная боярыней Морозовой, не замечает аналогичного подвига княгини. Евдокия Урусова словно олицетворяет собой всех безымянных раскольников, идущих на муки и смерть, гибнущих в сырых земляных тюрьмах и сгорающих заживо.
Работа была представлена публике на Пятнадцатой передвижной выставке и получила самую восторженную оценку современников. Владимир Стасов писал: «Суриков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории. Выше и дальше этой картины наше искусство, то, которое берет задачей изображение старой русской истории, не ходило еще».
По своей трагической выразительности, точности линейной композиции и формы, яркости ее колористического совершенства и исторической достоверности «Боярыня Морозова» — непревзойденный шедевр Сурикова. Под влиянием великих итальянских мастеров Тициана и Веронезе живописец нашел присущую только Руси цветовую гамму и писал картину, подобно импрессионистам, на пленэре: «…на снегу писать — все иное получается, на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых…»
Работа была представлена публике на Пятнадцатой передвижной выставке и получила самую восторженную оценку современников. Владимир Стасов писал: «Суриков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории. Выше и дальше этой картины наше искусство, то, которое берет задачей изображение старой русской истории, не ходило еще».
По своей трагической выразительности, точности линейной композиции и формы, яркости ее колористического совершенства и исторической достоверности «Боярыня Морозова» — непревзойденный шедевр Сурикова. Под влиянием великих итальянских мастеров Тициана и Веронезе живописец нашел присущую только Руси цветовую гамму и писал картину, подобно импрессионистам, на пленэре: «…на снегу писать — все иное получается, на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых…»
Интересный факт: во время написания картины розвальни, везущие боярыню, никак не хотели «ехать», чтобы создать столь необходимую иллюзию движения. Что только не предпринимал Василий Иванович: придавал наклон полозьям, доводил до совершенства борозды снега — сани все равно «стояли» на месте. И только когда мастер догадался написать рядом с ними бегущего мальчика, пропала упрямая статичность полотна и появилась необходимая динамика. Для зрителя это движение розвальней словно на мгновение остановлено гениальной кистью художника, но оно готово продолжиться в любую минуту. Движение в вечность…
Путешествие в Сибирь
Третьяков купил «Боярыню Морозову» за пятнадцать тысяч рублей, и Суриков смог наконец-то осуществить свою заветную мечту — поехать в родной Красноярск со всей семьей. К сожалению, долгожданная для Василия Ивановича поездка на родину оказалась роковой для его супруги. Долгая и трудная дорога на перекладных и пароходе подкосила и без того хрупкое здоровье Елизаветы Августовны, страдавшей пороком сердца. К тому же ее отношения со свекровью не сложились: суровая сибирячка и хрупкая француженка не нашли общего языка и взаимопонимания.
В Сибири художник много работал. Здесь был написан «Портрет П. Ф. Суриковой (матери художника)» (1887, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
В тот год случилось солнечное затмение, лучшей точкой наблюдения которого была Часовенная гора в Красноярске. Туда съехались астрономы со всего мира. Суриков писал затмение непосредственно с натуры. По словам художника, вышло «нечто апостольское, апокалиптическое… ультрафиолетовая смерть». Этюд купил Н. П. Пассек, родственник Кузнецовых. Но через несколько лет, пережив тяжелое потрясение, живописец счел свою работу ошибкой. Он приехал к Пассеку, выкупил этюд и тут же уничтожил его. И на полный отчаяния вопрос: «Что вы делаете? Вы с ума сошли, ведь это же Суриков!» Василий Иванович твердо и зло ответил: «Нет, это не Суриков! Это — затмение!»
В Сибири художник много работал. Здесь был написан «Портрет П. Ф. Суриковой (матери художника)» (1887, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).
В тот год случилось солнечное затмение, лучшей точкой наблюдения которого была Часовенная гора в Красноярске. Туда съехались астрономы со всего мира. Суриков писал затмение непосредственно с натуры. По словам художника, вышло «нечто апостольское, апокалиптическое… ультрафиолетовая смерть». Этюд купил Н. П. Пассек, родственник Кузнецовых. Но через несколько лет, пережив тяжелое потрясение, живописец счел свою работу ошибкой. Он приехал к Пассеку, выкупил этюд и тут же уничтожил его. И на полный отчаяния вопрос: «Что вы делаете? Вы с ума сошли, ведь это же Суриков!» Василий Иванович твердо и зло ответил: «Нет, это не Суриков! Это — затмение!»
Душевный надлом и одиночество
Возвратившись из Сибири, Елизавета Августовна тяжело заболела. Ее лечили лучшие профессора Москвы, но все было тщетно — 8 апреля 1888 она умерла. Для Сурикова смерть супруги стала тяжелейшим ударом. Из письма брату Александру: «Вот, Саша, жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить не могу».
Художник каждое утро вставал к ранней обедне и горячо молился о покойной, ежедневно ходил на Ваганьковское кладбище, часами просиживая на ее могиле. Однако время шло и лечило рану. Суриков не мог все время предаваться отчаянию: у него оставались две дочери, для которых после смерти матери он остался единственным близким человеком. И все же тяжелейший надлом в душе Василия Ивановича остался навсегда. Он больше не пытался устроить свою личную жизнь и найти новую подругу жизни. И больше никогда не написал произведения, равного по своей необычайной глубине и пронзительной силе «Боярыне Морозовой».
В это тяжелое время мастер нашел утешение в религии, постоянно перечитывал Библию. Итогом его мучительных раздумий о жизни, душе и смерти явилась картина «Исцеление Иисусом Христом слепорожденного» (1888, Церковно-Археологический кабинет Московской Духовной Академии, Сергиев Посад). Суриков писал ее для себя и не собирался выставлять. Лицо слепого напоминает автора.
Чтобы оправиться после тяжелой утраты, живописец с дочерьми решил на время переехать в Красноярск. Этот выход предложил брату Александр Иванович, а Прасковья Федоровна была чрезвычайно рада решению старшего сына. Семья снова объединилась, мать могла облегчить Васеньке трагическую утрату, а осиротевшим внучкам хоть частично заменить умершую мать. На родине Олю и Лену определили в гимназию, основные заботы о них взяла на себя бабушка. А в это время Стасов писал Третьякову: «…Не имеете ли вы сведений о Сурикове из Сибири? Какая это потеря для русского искусства — его отъезд и нежелание больше писать!»
В это тяжелое время мастер нашел утешение в религии, постоянно перечитывал Библию. Итогом его мучительных раздумий о жизни, душе и смерти явилась картина «Исцеление Иисусом Христом слепорожденного» (1888, Церковно-Археологический кабинет Московской Духовной Академии, Сергиев Посад). Суриков писал ее для себя и не собирался выставлять. Лицо слепого напоминает автора.
Чтобы оправиться после тяжелой утраты, живописец с дочерьми решил на время переехать в Красноярск. Этот выход предложил брату Александр Иванович, а Прасковья Федоровна была чрезвычайно рада решению старшего сына. Семья снова объединилась, мать могла облегчить Васеньке трагическую утрату, а осиротевшим внучкам хоть частично заменить умершую мать. На родине Олю и Лену определили в гимназию, основные заботы о них взяла на себя бабушка. А в это время Стасов писал Третьякову: «…Не имеете ли вы сведений о Сурикове из Сибири? Какая это потеря для русского искусства — его отъезд и нежелание больше писать!»
Забавы сибирских казаков
Пытаясь отвлечь Сурикова от тяжелых мыслей, брат Александр подал ему идею написать старинную масленичную казачью забаву — штурм построенной из снега крепости. Художник увлекся, с удовольствием начал собирать материал, искал детали и образы. Каждый базарный день он с раннего утра шел туда, где собирался народ, и с живейшим интересом вглядывался в лица красноярцев, прикидывал, насколько органично каждый типаж будет смотреться на картине, решал, какой использовать свет: рассеянный — для передачи пасмурного дня или яркое зимнее солнце. Мастер зарисовывал росписи над дугами на старинных кошевах, богатые узоры тюменских ковров и любые необычные детали саней и розвальней. Но больше всего Сурикова занимали образы, необходимые для толпы зрителей. Особо искать не приходилось, стоило только выйти за ворота — каждый встречный имел характерные черты сибирской мужественности, и казалось ему, что любое из этих лиц идеально вписывается в картину, все были близки и понятны своей сибирской суровой красотой.
Александр Иванович активно участвовал в создании картины, помогал брату, безотказно возил его по деревням и даже организовал само «взятие городка». В усадьбе построили специальную крепость изо льда и снега с башнями и зубцами, а также нашли казака, который «штурмовал» ее на лихом черном жеребце. Живописец писал легко, как никогда раньше, поэтому полотно «Взятие снежного городка» (1891, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) получилось радостным и задорным.
Александр Иванович активно участвовал в создании картины, помогал брату, безотказно возил его по деревням и даже организовал само «взятие городка». В усадьбе построили специальную крепость изо льда и снега с башнями и зубцами, а также нашли казака, который «штурмовал» ее на лихом черном жеребце. Живописец писал легко, как никогда раньше, поэтому полотно «Взятие снежного городка» (1891, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) получилось радостным и задорным.
«Я написал то, что сам много раз видел. Мне хотелось передать в картине впечатление своеобразной сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казачьей молодежи», — говорил Василий Иванович. В этой работе много его красноярских знакомых и даже родной брат Александр, изображенный в шапке-ушанке в санях, крытых тюменским ковром.
«Взятие снежного городка» было выставлено в Петербурге в 1891 и удивило публику несоответствием привычному трагическому амплуа художника. Светлое, позитивное и жизнеутверждающее произведение долго не покупали, только через несколько лет его удалось продать коллекционеру Владимиру фон Мекку за десять тысяч рублей. А через девять лет на международной выставке в Париже за картину «Взятие снежного городка» Суриков получил именную медаль.
«Взятие снежного городка» было выставлено в Петербурге в 1891 и удивило публику несоответствием привычному трагическому амплуа художника. Светлое, позитивное и жизнеутверждающее произведение долго не покупали, только через несколько лет его удалось продать коллекционеру Владимиру фон Мекку за десять тысяч рублей. А через девять лет на международной выставке в Париже за картину «Взятие снежного городка» Суриков получил именную медаль.
Подвиг далеких предков
Едва завершив «Взятие снежного городка», Суриков начал работу над грандиозным полотном «Покорение Сибири Ермаком» (1895, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Эта тема не могла не волновать человека, предки которого пришли в Сибирь вместе со знаменитым атаманом. С детства он слышал предания и рассказы о Ермаке и его доблестных сподвижниках, которые смогли победить несметную армию хана Кучума.
В сборе материалов помогли и ранние акварели, написанные в Минусинских степях, и личный опыт кулачных боев «стенка на стенку». Василий Иванович колесил по всему краю, заезжая в самые дальние села в поиске типов татар, остяков, вогулов, жизнь и быт которых почти не изменились с XVI века. Побывал он и на Дону — родине своих далеких предков, чтобы зарисовать характерные черты донских казаков еще без примеси разноплеменной сибирской крови. Каждый сантиметр огромной картины впитал в себя историческую достоверность, каждая ее деталь, будь то элемент одежды воинов хана Кучума, наконечники и оперение их стрел, пищали и казацкие сабли ермаковцев, лодки и весла обеих армий — все добывалось в долгих поисках по всей необъятной стране.
Полотно поражает масштабностью и величием изображенного исторического события. Композиция выстроена таким образом, что зрители смотрят на ханское войско со стороны казаков, словно плывут в соседней лодке. Прямо перед глазами, почти переплескиваясь через раму, кипит серо-бурой зыбью Иртыш. Мы становимся невольными участниками битвы под древним знаменем, с которым еще Дмитрий Донской ходил на Мамая, и удивительным образом сливаемся в едином порыве с ермаковцами.
В сборе материалов помогли и ранние акварели, написанные в Минусинских степях, и личный опыт кулачных боев «стенка на стенку». Василий Иванович колесил по всему краю, заезжая в самые дальние села в поиске типов татар, остяков, вогулов, жизнь и быт которых почти не изменились с XVI века. Побывал он и на Дону — родине своих далеких предков, чтобы зарисовать характерные черты донских казаков еще без примеси разноплеменной сибирской крови. Каждый сантиметр огромной картины впитал в себя историческую достоверность, каждая ее деталь, будь то элемент одежды воинов хана Кучума, наконечники и оперение их стрел, пищали и казацкие сабли ермаковцев, лодки и весла обеих армий — все добывалось в долгих поисках по всей необъятной стране.
Полотно поражает масштабностью и величием изображенного исторического события. Композиция выстроена таким образом, что зрители смотрят на ханское войско со стороны казаков, словно плывут в соседней лодке. Прямо перед глазами, почти переплескиваясь через раму, кипит серо-бурой зыбью Иртыш. Мы становимся невольными участниками битвы под древним знаменем, с которым еще Дмитрий Донской ходил на Мамая, и удивительным образом сливаемся в едином порыве с ермаковцами.
Очевидно, что сила на стороне Ермака и его рати. Воины хана (на правой стороне), несмотря на многочисленность, шаманские пляски, призывающие на помощь богов, и натянутые луки, выглядят беспомощными и побежденными. Их лица почти парализованы растерянностью перед напором казаков и страхом при виде огнестрельного оружия.
Создавая эту большую горизонтальную картину (285×599), Суриков впервые получил возможность работать в мастерской, расположенной в одной из башен Исторического музея. Все предыдущие писались им дома, где из-за тесноты художник порой с трудом мог разглядеть их полностью. Для этого приходилось отходить к дальней стене прихожей и смотреть сквозь открытые двустворчатые двери. Теперь же закончить «Покорение…» в доме оказалось совершенно невозможно: некуда было отойти, чтобы на расстоянии проверить верность цвета и композиции.
Хмурым холодным утром начала февраля 1895 Василий Иванович следил, как свернутую картину заколачивают в ящик, чтобы отправить в Петербург на Двадцать третью выставку передвижников. Странное гнетущее беспокойство не покидало мастера, и он не мог понять его причины… В те же дни, 6 февраля, в далеком Красноярске заколачивали гроб с телом его матери Прасковьи Федоровны, о чем художник узнал только спустя три недели.
За день до открытия выставки ее посетил царь Николай II с царицей. Венценосная чета приобрела новую работу Сурикова за сорок тысяч рублей. В это время как раз праздновались трехсотлетие покорения Сибири и открытие Транссибирской железной дороги, так что Василий Иванович случайно «попал в точку», оказавшись в неловкой для себя роли «официального» живописца. Совет Академии 20 марта 1895 присудил Сурикову звание академика.
Создавая эту большую горизонтальную картину (285×599), Суриков впервые получил возможность работать в мастерской, расположенной в одной из башен Исторического музея. Все предыдущие писались им дома, где из-за тесноты художник порой с трудом мог разглядеть их полностью. Для этого приходилось отходить к дальней стене прихожей и смотреть сквозь открытые двустворчатые двери. Теперь же закончить «Покорение…» в доме оказалось совершенно невозможно: некуда было отойти, чтобы на расстоянии проверить верность цвета и композиции.
Хмурым холодным утром начала февраля 1895 Василий Иванович следил, как свернутую картину заколачивают в ящик, чтобы отправить в Петербург на Двадцать третью выставку передвижников. Странное гнетущее беспокойство не покидало мастера, и он не мог понять его причины… В те же дни, 6 февраля, в далеком Красноярске заколачивали гроб с телом его матери Прасковьи Федоровны, о чем художник узнал только спустя три недели.
За день до открытия выставки ее посетил царь Николай II с царицей. Венценосная чета приобрела новую работу Сурикова за сорок тысяч рублей. В это время как раз праздновались трехсотлетие покорения Сибири и открытие Транссибирской железной дороги, так что Василий Иванович случайно «попал в точку», оказавшись в неловкой для себя роли «официального» живописца. Совет Академии 20 марта 1895 присудил Сурикову звание академика.
Орденоносцы
Почти сразу же художник увлекся новой идеей, которая родилась еще в Красноярске. Картина «Переход Суворова через Альпы» (1899, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) органично продолжает тему воинского героизма русских людей, начатую в «Покорении Сибири Ермаком». Холст размером 495×373 расположен вертикально и демонстрирует неприступность скалистых гор, героически преодолеваемых русской армией. Пейзаж Василий Иванович писал в Швейцарии, на месте знаменитого исторического перехода.
Лицо Суворова обращено к лавине скатывающихся вниз людей, что создает впечатление его тесной связи с солдатами. Бесстрашные вояки смотрят на своего полководца с обожанием и безграничным доверием и готовы беспрекословно подчиняться любому его приказу.
Подбирая расположение фигуры генералиссимуса и нужный ракурс, художник советовался со старшей дочерью Олей, у которой был отличный глазомер и чувство композиции. Однако на предложение девушки убрать штыки, дабы верхние солдаты не попали на них, Суриков категорически воскликнул: «Ни за что! Красота в сверкании. Нельзя русскому солдату без штыка». За эти непримкнутые по уставу штыки он впоследствии услышал много критики. Но автор лишь хотел подчеркнуть, что у Суворова многое было «не по уставу», и при этом он оставался великим полководцем.
Лицо Суворова обращено к лавине скатывающихся вниз людей, что создает впечатление его тесной связи с солдатами. Бесстрашные вояки смотрят на своего полководца с обожанием и безграничным доверием и готовы беспрекословно подчиняться любому его приказу.
Подбирая расположение фигуры генералиссимуса и нужный ракурс, художник советовался со старшей дочерью Олей, у которой был отличный глазомер и чувство композиции. Однако на предложение девушки убрать штыки, дабы верхние солдаты не попали на них, Суриков категорически воскликнул: «Ни за что! Красота в сверкании. Нельзя русскому солдату без штыка». За эти непримкнутые по уставу штыки он впоследствии услышал много критики. Но автор лишь хотел подчеркнуть, что у Суворова многое было «не по уставу», и при этом он оставался великим полководцем.
На Двадцать седьмой выставке передвижников новая работа Сурикова, как обычно, оказалась в центре внимания. Главной ее удачей было, по мнению критиков, «сродство духовного начала» создателя картины и гениального полководца.
Именно в этот год отмечалось столетие итальянского похода Суворова. И снова живописец случайно попал к официальной дате. Картина «Переход Суворова через Альпы» была приобретена императором за двадцать пять тысяч рублей.
В 1901 Сурикову был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени за «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы». Художник орденов не носил, но для него было очень важно признание его заслуг перед отечеством. Вскоре пришло письмо из Франции: Люксембургский музей желал приобрести одну из исторических картин, «отличающихся большим патриотизмом».
Живописцу было приятно, что его слава вышла за пределы горячо любимой родины: «Наконец-то, помаленьку узнают, что я такое!» Но, будучи патриотом, он хотел видеть свои полотна только в русских музеях.
В этом же году Сурикова пригласили на должность преподавателя в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Именно в этот год отмечалось столетие итальянского похода Суворова. И снова живописец случайно попал к официальной дате. Картина «Переход Суворова через Альпы» была приобретена императором за двадцать пять тысяч рублей.
В 1901 Сурикову был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени за «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы». Художник орденов не носил, но для него было очень важно признание его заслуг перед отечеством. Вскоре пришло письмо из Франции: Люксембургский музей желал приобрести одну из исторических картин, «отличающихся большим патриотизмом».
Живописцу было приятно, что его слава вышла за пределы горячо любимой родины: «Наконец-то, помаленьку узнают, что я такое!» Но, будучи патриотом, он хотел видеть свои полотна только в русских музеях.
В этом же году Сурикова пригласили на должность преподавателя в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Это было уже далеко не первое предложение подобного рода, которое он отклонил. Еще в 1893 мастер не захотел преподавать в родной Академии художеств, о чем вежливо, но твердо уведомил администрацию, а позже, в 1907, отверг еще одно подобное лестное приглашение. На этот раз Василий Иванович объяснил причину отказа так: «Благодарю за честь выбора, но согласиться не могу., считаю для себя как художника свободу выше всего». Теперь он был по-настоящему свободен, много путешествовал и отдавал все свое ничем не ограниченное время творчеству.
Дума вольного казака
Картина «Степан Разин» (1906, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — еще один исторический экскурс в далекое прошлое Руси. По бескрайним волжским просторам плывет струг с атаманом и его вольной дружиной. Взлетают над водой весла, казаки бражничают и веселятся, и только Разин погружен в глубокую думу. О чем? Как сделать русский народ вольным и счастливым? Или о судьбах верных сподвижников: куда он приведет их? А быть может, тоскует грозный атаман по персидской княжне? Каждый зритель, обладающий фантазией и склонный к романтизму, присмотрится к волнам: не та ли малоприметная водяная воронка, изображенная на картине слева, поглотила яркую восточную красоту прекрасной пленницы? Случайно ли с таким сожалением пристально смотрит на этот водоворот молодой гребец в красной рубахе?
В первые наброски к картине был включен образ княжны, от которого позже художник отказался, чтобы не вышло лишь заурядной иллюстрации к известной песне «Из-за острова на стрежень». Суриков не любил банальности и стереотипы.
Полотно неповторимо по колориту: перламутровая вода Волги отражает жемчужный отблеск над горизонтом, прозрачный воздух струится, размывая очертания далекого берега, и рассеянным светом пробивается сквозь упругую ткань паруса, наполненного вольным ветром.
По мнению самого Василия Ивановича, картина «Степан Разин» получилась неудачной. Она долго не продавалась, так как художник ее постоянно дорабатывал. Двенадцать лет искал он среди казаков «голову» главного героя, да так и выставил, по собственному признанию, «без того Стеньки». И только в 1910, когда картина была уже продана, провидение вывело мастера на подлинное лицо Разина. Этюд «Степан Разин» (1910, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), написанный тушью, показывает нам более точный, по мнению автора, образ атамана.
Полотно неповторимо по колориту: перламутровая вода Волги отражает жемчужный отблеск над горизонтом, прозрачный воздух струится, размывая очертания далекого берега, и рассеянным светом пробивается сквозь упругую ткань паруса, наполненного вольным ветром.
По мнению самого Василия Ивановича, картина «Степан Разин» получилась неудачной. Она долго не продавалась, так как художник ее постоянно дорабатывал. Двенадцать лет искал он среди казаков «голову» главного героя, да так и выставил, по собственному признанию, «без того Стеньки». И только в 1910, когда картина была уже продана, провидение вывело мастера на подлинное лицо Разина. Этюд «Степан Разин» (1910, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), написанный тушью, показывает нам более точный, по мнению автора, образ атамана.
Портретист и пейзажист
Создавая большие полотна, тщательно подбирая к ним натуру, Суриков делал множество замечательных портретных, пейзажных, натюрмортных и интерьерных эскизов. Часто они имели совсем не этюдный, а вполне законченный вид отдельной картины и самоценный эстетический смысл.
Художником был создан и целый ряд самостоятельных портретов. Эти работы просты по композиции, но чрезвычайно выразительны и сильны по отраженным в них характерам. «Портрет генералиссимуса А. В. Суворова» (1907, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — уже совершенно другой образ великого полководца, отличный от изображенного в «Переходе Суворова через Альпы». В «Портрете Е. В. Суриковой, дочери художника» (1908, Музей-усадьба В. И. Сурикова, Красноярск) — младшая дочь Елена. «Портрет Н. Ф. Матвеевой» (1909, Харьковский музей изобразительных искусств) — великолепная работа в любимом Суриковым русском стиле с чарующей игрой красок на парчовой ткани. В «Портрете хакаски» (1909, Музей-усадьба В. И. Сурикова, Красноярск) представлена женщина в национальном костюме с большими натруженными руками. Очень живым кажется «Портрет А. Д. Езерского» (1910, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Несмотря на статичность композиции, в картине присутствует динамика: доктор увлечен чтением, кажется, что он сейчас дочитает страницу и перевернет ее.
Незадолго до смерти Суриков так определит свое творчество: «Стрельцов», «Меншикова» и «Морозову» не мог не написать; «Снежный городок» и «Ермака» смог написать; «Суворова» мог не писать; «Стеньку» так и не смог...».
Незадолго до смерти Суриков так определит свое творчество: «Стрельцов», «Меншикова» и «Морозову» не мог не написать; «Снежный городок» и «Ермака» смог написать; «Суворова» мог не писать; «Стеньку» так и не смог...».
В 1910 Василий Иванович вместе с зятем Петром Кончаловским побывал в Испании. Прекрасная солнечная Андалусия восхитила обоих живыми природными красками, бесподобными ароматами цветов, ладана и местной кухни, открытостью и гостеприимством населения. Эта поездка оказалась этапной в поисках художником цвета, впервые в своем творчестве создавшем яркие солнечные пейзажи. В красочной южной стране написаны едва ли не лучшие акварели Сурикова. Не обошел он своим вниманием и местное национальное зрелище: «Севилья. Бой быков» (1910, Государственная Третьяковская галерея, Москва). В акварельных этюдах проявился замечательный дар Сурикова-колориста, не закрашивающего на картине рисунок углем, а естественно строящего форму цветом и открытыми, сочными тонами.
Узницы теремов
Последняя крупная работа Сурикова — «Посещение царевной женского монастыря» (1912, Государственная Третьяковская галерея, Москва) с торжественной живописностью повествует о трагических судьбах царских дочерей. Русские царевны были пленницами теремов и коротали свой век среди мамок-нянек, шутих да прислужниц. Девушки не имели права выйти замуж ни за кого, кто ниже царского рода, но где найти на Руси свободных царевичей, которые бы не были их родными братьями? Королевичи, принцы и прочие знатные иностранцы считались еретиками, никто из них и не видел этих затворниц. Русские царевны могли стать лишь христовыми невестами. Они отдавали в выбранную обитель все свое богатое приданое, поэтому монастыри стерегли царских дочерей, как коршун добычу.
Именно такую царевну изобразил Суриков. На ее еще детском личике — безысходность и покорность судьбе. Настоятельница, поджав губы, пристально наблюдает за реакцией высокой гостьи, которая вскоре поступит под ее крылышко: нравится ли ей все, нет ли в лице строптивости или капризности, а мамка зорко следит, чтобы никто вокруг не нарушил царевнино благочестие. Монахини ведут себя по-разному: одни низко склонились, другие с любопытством осматривают гостью.
Для образа царевны Сурикову позировали очень религиозная дочь его знакомых, которая собиралась стать монахиней, и внучка Наталья Кончаловская.
Для образа царевны Сурикову позировали очень религиозная дочь его знакомых, которая собиралась стать монахиней, и внучка Наталья Кончаловская.
Всерусский талант
Лето 1915 Василий Иванович провел в Крыму. Он много ходил пешком, поднимался в горы, а вернувшись утомленным на пляж, часами находился на солнце. Такие нагрузки оказались слишком тяжелыми для его больного сердца. Так 6 марта 1916 Сурикова не стало.
Последние слова великого художника были: «Я исчезаю».
«Он шел всегда особняком, это была одна из величайших индивидуальностей, — написано в одном из некрологов о Сурикове. — Таким же «особым человеком» был он в жизни., замкнутый в процессе творчества… Когда «ставилась точка», когда накрепко запертые двери суриковской студии раскрывались и картина, несколько лет таимая, делалась общим достоянием, оказывалось, что из рук этого сторонившегося, особого человека вышло произведение такой невероятной общезначительности, простоты и доступности, такой собирательной народной души, что так же хотелось снять имя автора и сказать, что это безымянное, национальное, всерусское создание, как хочется сказать, что безымянная, собирательная всерусская рука писала «Войну и мир».
Последние слова великого художника были: «Я исчезаю».
«Он шел всегда особняком, это была одна из величайших индивидуальностей, — написано в одном из некрологов о Сурикове. — Таким же «особым человеком» был он в жизни., замкнутый в процессе творчества… Когда «ставилась точка», когда накрепко запертые двери суриковской студии раскрывались и картина, несколько лет таимая, делалась общим достоянием, оказывалось, что из рук этого сторонившегося, особого человека вышло произведение такой невероятной общезначительности, простоты и доступности, такой собирательной народной души, что так же хотелось снять имя автора и сказать, что это безымянное, национальное, всерусское создание, как хочется сказать, что безымянная, собирательная всерусская рука писала «Войну и мир».
Для всего русского искусства значение Сурикова огромно и неповторимо. У живописца не было учеников и последователей, он не мог их иметь, как Рембрандт, Веласкес, Вермеер и другие великие мастера. Гениальность творчества художника не укладывается в какие-либо рамки или теории. Он вынашивал свои картины в сердце, вкладывал свой несокрушимый казацкий дух в каждый мазок краски и, когда отпускал свои творения к зрителю, вместе со всеми становился свидетелем рождения легенды — не более. Он был скромен и всегда оставался самим собой. Он был свободен…

Над выпуском работали:
Автор текста: В. Баева
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru
Структура и дизайн: В. Андрюсева
Руководитель проекта «Арт-Портал»: В. Андрюсева
manager@directmedia.ru
www.directmedia.ru